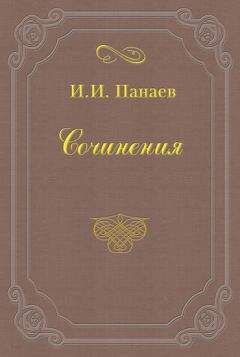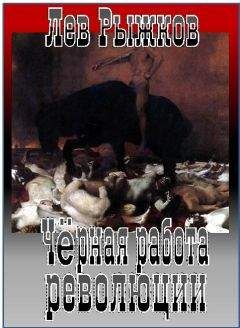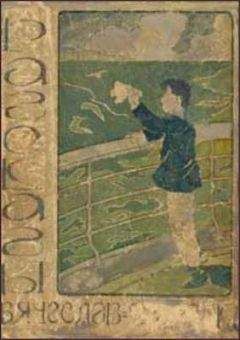Сергий Булгаков - Автобиографические заметки
430
ственным развитием, умственным и научным, протекавшим притом в интеллигентской среде, которой не были свойственны религиозные переживания и во–прошания, но, напротив, религиозный нигилизм являлся само собою разумеющейся аксиомой мировоззрения. Так продолжалось долгие годы, доколе не пришло время прорасти зерну моей собственной души, и этот росток властно проложил себе путь в чуждой и враждебной среде. Сейчас мне самому является чем‑то для себя уничижительным, а вместе и непонятным, как мог я так долго духовно спать или находиться в духовно обморочном состоянии. Этот период религиозной пустоты представляется мне сейчас самым тяжелым временем моей жизни именно по своей религиозной бессознательности. Очевидно, мне предстояло изжить до дна всю пустоту интеллигентщины и нигилизма, со всей силой удариться об эту каменную стену, отчего почувствовалась, наконец, невыносимая боль. Теперь, озирая свою жизнь уже из начала 8–го десятилетия, зная ее долготу, я вижу, что темпы ее свершений вообще были соразмерны этой продолжительности. Для того чтобы пережить данное духовное состояние в пропорциях долголетней жизни, очевидно, соответствовала и большая замедленность духовных процессов, которая не соответствовала бы жизни более краткой[6].
Однако если я воспринял нигилизм без боя, это не значило, чтобы я это пережил безболезненно. Совсем напротив, теперь я вижу, как я никогда не мирился с ним, нося его как платье с чужого плеча, доколе не найдено было мною собственное. Да и вообще это мой переход не от веры к неверию, но с одной своей веры к другой, чужой и пустой, но все‑таки вере, имеющей для себя свои собственные святыни. Эта верность
431
вере, призвание к вере и жизнь по вере (если и греховная даже в отношении к ней, то во всяком случае судимая ее собственным, имманентным судом) — есть основной факт моей жизни, который мне хотелось бы установить и утвердить именно пред лицом моего неверия. Человек есть вообще верующее существо, призванное к вере и к жизни по вере. Но не все сознают это с равной степенью ясности. Для меня же это открылось с такой полной очевидностью именно потому, что, имея, может быть, по левитству своему, особую призванность к вере, в свете ее, загоревшемся во мне, и на протяжении всей жизни в вере, являюсь способен ощутить в себе и оценить во всей силе этот основной факт веры и неверия, познать как особый образ или разновидность веры. Такова была психология моего неверия. Дважды я переживал потерю веры, как общий жизненный кризис, настолько, что однажды во мне раздались мысли о самоубийстве на религиозной почве, то есть утрачивался и смысл жизни вместе с потерей веры. Этого не было в отрочестве в ранний период неверия, но проявилось с неожиданной и большой силой на грани юности. Бессознательное религиозное вдохновение подавалось мне даже в период безверия, веяние смерти, ее благодать с откровением потустороннего мира. Наряду с этим и самый характер моего неверия не был состоянием религиозной пустоты и индифферентизма, но вера в «прогресс» человечества и под. Она включала не только определенную этику, но и эсхатологию. Мое неверие было существенно эсхатологично. Оно знало свои восторги веры. Я вспоминаю такие минуты некоего как бы пророческого вдохновения, когда свои видения грядущего человеческого прогресса я невольно облекал в образы жизни в Боге: люди будут боги, говорил я себе (кажется и другим) с юным горением сердца, и, разумеется, без всякого оттенка богоборчества или кощунства. Напротив, то было бессознательное ведение истины бо–гочеловечества, которое во мне всегда просилось наружу, искало для себя выхода. Но выход этот должен быть найден достойно, а этого я не умею найти. И так создавался духовный плен. Найти же себя в правосла-
432
вии, которое было для меня родным, мешал, кроме моей юношеской гордости, его «зрак раба», культурное убожество и историческая бескрылость «исторической церкви», пойти же на открытую борьбу с интеллигентщиной не находилось сил. Таким образом я оказался уже в начале своего жизненного пути между двух миров, не будучи способен слиться ни с одним из них, двух станов гость случайный. Так предопределилась судьба всей моей жизни, пока еще в смутных первообразах: чужой среди своих, свой среди чужих, а в сущности нигде не свой… Один в поле не воин, но всегда и везде один…
433
МОЕ РУКОПОЛОЖЕНИЕ
(24 года)
Игорю Платоновичу Демидову
Я родился в семье священника, во мне течет ле–витская кровь шести поколений. Я вырос у храма Преп. Сергия, благодатно обвеянный его молитвой и звоном. Мои впечатления детства эстетические, моральные, бытовые связаны с жизнью этого храма[7]. Под кровом его горело сердце молитвенным восторгом и орошалось похоронными слезами. Примерно до 12—13 лет я был верным сыном Церкви по рождению и воспитанию. Учился в духовной школе, сначала в Духовном училище (четырехклассном) в родном городе Ливнах, а затем в Орловской Духовной семинарии (3 года). Уже в самом почти начале периода, в первом — втором классе семинарии наступил религиозный кризис, который — правда, хотя и с болью, но без трагедии — закончился утратой религиозной веры на долгие, долгие годы, и с 14 лет, примерно до 30, блудный сын удалился в страну далеку, к горю и соблазну, вероятно, многих, но прежде всего, конечно, родителей. Мне было что терять, а я это отдавал как будто легко, без борьбы (хотя были даже мысли о самоубийстве от безбожия). Начальный толчок, по–видимому, давало ребяческое самолюбие: я был захвален в школе, однако тем чувствительней были для меня его уколы в бурсацкой грубости. Однако это не было серьезно. Гораздо
434
серьезнее были молодые вопрошания и сомнения, на которые некому было ответить. Последние к тому же поддерживались попутными влияниями и встречами, главное же и больше всего той интеллигентщиной, жертвой которой — и лично, и исторически — сделался и я вместе с бесчисленными братьями своими, вместе со всей Россией. То была общая судьба «гуманистического» человечества, доныне изживаемая, соблазн человекобожия. Однако правда моего протеста против окружавшего меня мира состояла в том духе свободолюбия, который отвращался от раболепства, царившего в мире «духовном». (За пределы же его мой опыт тогда еще не простирался.) С ним я не хотел и не мог (и не должен был) примириться, от него я бежал, спасая свое духовное существо, и это свое бегство и посейчас считаю оправданным. К этому присоединилось и то, что вместе с потерей религиозной веры я, естественно, как бы автоматически, усвоил господствующие в интеллигенции революционные настроения, без определенной партийности, но с решительной непримиримостью к монархизму, господствовавшему, по крайней мере, в нашей «духовной» среде. Одним словом, со мной повторилось — в этой стадии жизни — то, что было с моими предшественниками по семинарской школе: Чернышевским, Добролюбовым и др. Я стал жертвой мрачного революционного нигилизма (хотя он всегда соединялся с любовью к искусству и литературе, меня спасавшими). К этому надо присоединить и то, что общая атмосфера духовной школы бессильна была противопоставить этому нигилизму достаточное противодействие. Поддерживаемая привычным бытом и принуждением, она становилась все более невыносимой для гордого, самомыслящего, но и искреннего в своем свободолюбии и правдолюбии мальчика.
Семинарское начальство прочило меня тогда в студенты Духовной академии, для меня же единственным путем спасения тогда являлось: бежать из семинарии, не откладывая и без оглядки. Куда? Конечно, в светскую школу — в университет. Зачем? «Приносить пользу», служить человечеству, прогрессу, научной
435
мысли, к которой всегда лежала моя душа. Исполнение этого плана было не легко, оно требовало жертв и не только от меня самого, но и от моих близких, то есть, прежде всего, от родителей (о чем я меньше всего думал в молодом своем эгоизме). Тем не менее, летом 1888 года я оставил Орловскую семинарию и, после двухлетнего пребывания в Елецкой гимназии, осенью 1890 года вступил в Московский университет, на юридический факультет. В этом выборе я явился также жертвой интеллигентской стадности, пойдя вопреки собственному влечению. Меня влекла область филологии, философии, литературы, я же попал на чуждый мне юридический факультет в известном смысле для того, чтобы тем спасать отечество от царской тирании, конечно, идейно. А для этого надо было посвятить себя социальным наукам, как каторжник к тачке, привязав себя к политической экономии. К прохождению чрез это чистилище я сам обрек себя и тем искупил свой грех блудного сына. Я вступил в Университет с заранее определенным намерением — посвятить себя мне чуждой науке, и этот план я и исполнил, достигнув оставления при университете на этой кафедре (добрейшим и милейшим проф. А. И. Чупровым, сродным мне по судьбе: это был тоже семинарист, вспоминавший о своем прошлом, как о потерянном рае, но ему не суждено было до конца пройти интеллигентскую пустыню). Я хорошо представляю себе все его волнение, которое он испытал бы, увидя меня в рясе, но он до этого скандала не дожил.