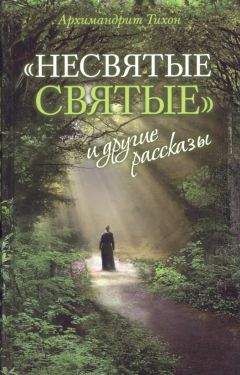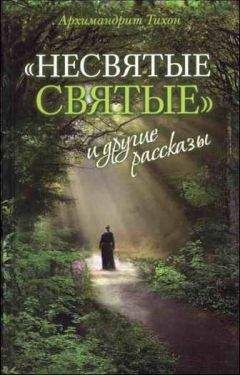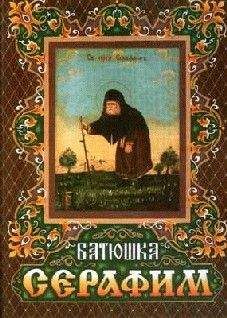Старец Паисий Святогорец - Слова. Том II. Духовное пробуждение
Я вижу, что состояние некоторых монахов совершенно не отличается от состояния одного бедуина, с которым я познакомился на Синае. Ему было шестьдесят пять лет, а он говорил: "А у меня нет отца: я [круглый] сирота!". Люди в шестьдесят пять лет уже имеют внуков. Прошло уже два-три поколения, и [как можно] говорить: "У меня нет отца", то есть искать отцовской любви! И мы, монахи, будучи невнимательными, остаемся детьми – зло в этом. Однако, поразмыслив о том, что бы они в таком возрасте делали в мире, монахине или монаху следует сказать: "Сейчас я не должен искать человеческого утешения. Я должен принести себя в жертву, а не иметь претензий к другим". Большинство приходит в монастыри молодыми, находит там духовных родителей и может так и остаться в детском состоянии, с детскими претензиями, тогда как, находясь в миру, они уже были бы родителями сами. То есть из детства они так и не выходят – не в добром смысле, а в ребячливом, инфантильном. Можно и такое увидеть: человек состарился, но если он не начал работать головой, то радуется карамельке или маечке. "А мне батюшка кофточку купил", – хвалился один старенький афонский монах и показывал теплую фуфайку, которую дал ему его старец. Ну совсем как маленький мальчик, которому мама купила пиджачок с погончиками!.
Давайте будем младенцы на злое, но не по уму[253]. Иначе как в нашу жизнь войдет отвага? Как к нам придет мужество? Монах, для того чтобы преуспеть, должен размягчить ту жесткость, которая в нем есть, то есть ему надо сделать свое сердце чуть материнским. Монахине же, для того чтобы преуспеть, нужно стяжать себе немножко мужества.
Наша духовная скромность изменяет других
– Геронда, когда кто-то поступает в монастырь, но образ его мыслей еще мирской, в голове еще гуляет мирской ветер, то как ему освободиться от этого?
– Поступив в монастырь, надо забыть мир, а потом надо не забывать, что находишься в монастыре. Дома, ладно, там можно не найти благоприятной возможности, для того чтобы начать духовную жизнь, не получить правильного воспитания. Но теперь нужно быть очень внимательным: какое воспитание ты получишь здесь, в монастыре? Монашеское воспитание. Монастырь – это место священное. Мир – дело другое. Если размышлять о том, что находишься в священном месте, то скромность придет сама собой. Но как она придет, если человек забывается и полагает, что он в миру? Монахиня должна вести себя естественно, с простотою, со смирением, а не изображать из себя воплощение "несчастной судьбы". Это вызывает отвращение, отталкивает.
Я вижу, что некоторые сестры-послушницы ведут себя по-мирскому. Вышагивают, как павы, как невесты в миру, а не как Христовы невесты. А вот другие, те ходят со скромностью, и я вижу, что в них есть нечто священное. Как же одно отличается от другого! И сразу понятно, что такое монашество. Если вы обратите внимание на пшеничные колосья, то увидите, что в высящемся, прямо стоящем колосе ничего нет. Колос же, наполненный хлебом, приклоняется книзу.
Монах, имеющий благоговение, изменяет тех, кто его видит. Вот сегодня приходил один иеромонах, я с ним давно знаком. Он некрасив, то есть не обладает красотой внешней, но, несмотря на это, всякий раз, когда он причащался, я видел, что его лицо сияло. Да и когда не причащался, я видел на его лице сияние, духовное сияние. Как асфальт – по сути это смола, а поглядишь на него летом издалека: он часто блестит. Так и здесь: видишь сияние на лице некрасивого человека. Конечно, пример с асфальтом не очень-то удачный, но какое тут еще можно подобрать сравнение? Я хочу сказать, что духовное состояние, в котором находится человек, дает ему сияние и внешнее. Это духовная красота, Благодать, Божественная Благодать. Но насколько же отталкивают от себя другие носители священного сана: красивые наружно, но имеющие в себе мирской дух, колеблемые мирским ветром! Ты видишь перед собой совершенно мирского человека. Кроме священного сана, ничего духовного не видно! Лицо человека отражает его духовное состояние. Это то, о чем сказал Христос: "Светильник телу есть око. Аще убо будет око твое просто, все тело твое светло будет"[254]. Если в человеке есть простота, если есть смирение, то в нем есть божественное просвещение, и он сияет. Вот так. Этого-то и должен достичь монах.
– Геронда, святой Нил Калабрийский говорит, что, став монахом, человек делается или ангелом, или диаволом[255]. Выходит, что промежуточного состояния нет?
– Святой хочет сказать, что работа монаха над собой должна быть правильной. Оттого и попускает Бог тяжкие наказания монаху-великосхимнику, павшему в смертный грех, чтобы он искупил этим свою вину. Мы иногда думаем, что получим Благодать с помощью чего-то внешнего, способом искусственным, магическим. Но это не приносит удовлетворения ни Богу, ни внутренне самому человеку, ни другим. К примеру, некоторые монахи шьют себе широкие и длинные, донизу, схимы, вышивают на них красные кресты, розы, ветки багряные, целую кучу букв… Распахивают и рясу, чтобы было видно всю эту красоту, прямо как фарисеи, которые расширяли воскрилия своих одежд[256], желая показать, как много они молятся! А в прежние времена схима у монаха чуть виднелась из-под рясы, да и то лишь при ходьбе. Многие вообще носили под подрясником малую схиму и ходили с ней, чтобы совсем ничего не было заметно. А сейчас пустоцветы. Разве получат они Благодать от схимы подобным образом? Схима гнушается их, а благодать уходит. Задача в том, что бы монах стал великосхимником изнутри. А тот, кто становится великосхимником изнутри, свою схиму прячет. Внешнее не ведет ко внутреннему изменению. Так люди остаются поверхностными, и в конечном итоге они услышат от Христа: "Не вем вас"[257].
Монастыри имеют духовное предназначение
Монах печется о спасении собственном и о спасении всех живых и всех усопших. Настоящая, божественная любовь кроется для монаха в боли за спасение своей души и в боли за спасение всего мира. Посвященная Богу душа монаха содействует спасению не только его родных, но и земляков. Поэтому в Малой Азии в добром обычае было иметь хотя бы одного монаха от каждого рода, чтобы он предстательствовал о всех. В Фарасах, когда кто-то становился монахом, устраивали праздник на все село. "Он, – говорили люди, – теперь и селу нашему будет помогать".
Конечно, монах никогда не говорит. "Я спасу мир". Он молится о спасении мира параллельно с молитвой о своем собственном спасении. А когда добрый Бог, услышав его молитву, помогает миру, монах не говорит "Я спас мир, – но: – Бог спас мир". Монах должен достичь такого состояния, чтобы молиться: "Боже мой, Ты на меня не гляди, меня не милуй. Позаботься о мире, помилуй его". Монах молится так не потому, что сам он не нуждается в милости Божией, но потому, что имеет многую любовь к миру.
– Геронда, до какого предела монах должен забывать о себе, помогая людям?
– До того, пока он видит, что людям есть от этого польза Но если я совершенно отдамся в руки мирян, то и сам превращусь в мирского человека. Когда монах якобы для того, чтобы помочь людям мирским, делает то, что монашеству не приличествует, то людям это не помогает. К примеру, какой-то монах может стать прекрасным таксистом. И денег-то за проезд он брать не будет, и разговоры-то духовные с пассажирами он будет вести… Но это не монашеское дело. Иногда встречаешь у монахов дух мирской, а у мирских – монашеский. А поэтому Христос скажет в жизни иной: "Ты снимай-ка схиму, а ты надевай". Человек мирской, возжелав жизни монашеской, освящается. Но если монах возжелает мирской жизни, то он идет в вечную муку.
– А если монах расположил себя неверно, то понятно ли ему это?
– Да хотя бы и непонятно: если в чем-то допущена ошибка, то он не будет иметь в себе полного мира, покоя. В том, что не приличествует монашеству, душа инока покоя не найдет. А с того мгновения, как его душа потеряла покой, он должен искать и найти причину этого.
Один мой знакомый посетил некую обитель, а потом рассказывал: "Да там настоящее ателье! А матушка-игумения что за диво! Торгуй она пуговицами в Монастыраки в Афинах[258], так вот была бы на своем месте! Уж такая у ней в этих делах хватка!". То есть монастырь – это ателье. Потом он превращается в фабрику, потом в супермаркет, а потом в ярмарку! Несчастные мирские люди хотят от нас, монахов, чего-то высшего. Но для того, чтобы достичь высшего, нам должно избегать всякого человеческого утешения.
Монастыри имеют духовное предназначение. В них не должно быть начала мирского, но лишь духовное, чтобы они преисполняли человеческие души райскими сладостями. Ну куда нам соревноваться с мирянами в мирском! Ведь как ни возьми, у них все равно возможностей побольше нашего. Если же монашеская обитель живет духовно, то знаете, как она заставляет мир задуматься! Когда присутствует благоговение, страх Божий, когда нет ни мирской логики, ни торгашеского духа, это умиляет мирян. Но, к сожалению, торгашеский дух потихоньку проникает в монашество до самого мозга костей. Ко мне в каливу зашел как-то один монах. Я плел четки. "Ты, – сказал он мне, – такие четки на тридцать три узелка раздаешь в благословение. А я одну такую четку могу продать даже и за пятьсот драхм! И я с ними, как ты, не рассусоливаю: как только заканчиваю узелки, обрезаю края и немного схватываю их между собой, чтобы понапрасну не расходовать шерсть. И сутаж, который остается от крестов, у меня тоже в дело идет – подшиваю и его. И бусинок не использую. Прибыли у меня выходит побольше твоего!" – "Слушай, – ответил я, – да как же тебе не стыдно! Разве ты не понимаешь, что в тебя вселился торгашеский дух? Я с 1950 года монах, но такое слышу впервые!".