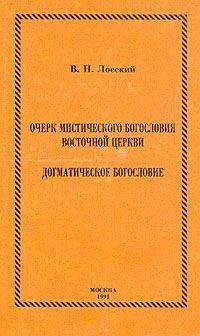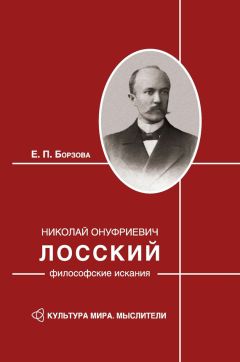Николай Лосский - Достоевский и его христианское миропонимание
«Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их народится) будут все когда‑нибудь образованы, очеловечены и счастливы» '.
В возрасте 25 лет, познакомившись с Белинским, Достоевский под влиянием бесед с ним стал интересоваться идеями социализма, нравственно обоснованного и проникнутого возвышенными гуманными настроениями. В 1847 г. он стал посещать собрания кружка «петрашевцев», члены которого увлекались главным образом идеями социализма Фурье.
' «Дневник Писателя», 1876, январь.
18
Участие в этом кружке едва не закончилось для Достоевского смертною казнью и привело его к каторге.
Глубокие потрясения, перенесенные им, и расширение опыта благодаря жизни среди простого народа сначала на каторге, а потом среди солдат на военной службе в Сибири произвели существенные изменения в мировоззрении Достоевского. Он понял недостатки социализма как попытки внутренне усовершенствовать человечество внешними средствами новой социальной системы. Он и раньше догадывался, что это невозможно. Образ Христа, любимый им и раньше, йыдвинулся теперь для него на первый план. Жажда социальной справедливости продолжает сохраняться в нем, но средства для осуществления ее он ищет в области духа, а не во внешнем строе общества. Любовь к России и русскому народу, всегда присущая Достоевскому, вместе с христианскими идеалами выдвинулась в мировоззрении и деятельности его на первое место. Он мечтает о «всепримирении народов» с помощью России.
Службу России и всему человечеству Достоевский осуществил после каторги не участием. в революционном кружке, а своим гениальным художественным творчеством и писанием публицистических статей. Под конец жизни Достоевский стал для множества людей духовным руководителем: ежедневно он получал письма со всех концов России и принимал посетителей, просивших совета, наставления, указания жизненного пути. Эта деятельность Достоевского была подобна общественному служению русского «старца» в монастыре, вроде старца Амвросия, виденного им в Оптиной пустыни, или сотворенного его фантазиею старца Зосимы в «Братьях Карамазовых».
Мечты и мысли Достоевского о всемирном счастии, увлекавшие его в течение всей жизни, достигли наиболее яркого выражения за полгода до его кончины в речи о Пушкине, произнесенной 8 июня 1880 г. В конце ее он уверенно говорит: «Будущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное Слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону».
Божественная гармония, снимающая все противоречия, была для Достоевского не абстрактною мыслью и не бесплотною мечтою фантазии, а живою данною опыта, настолько превосходящего условия земной жизни, что видение ее заканчивалось для него утратою сознания. Об этом опыте, предшествующем эпилептическому припадку, Достоевский рассказывает в романе «Идиот» от имени князя Мышкина.
«В эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти
19
удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое‑то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. В здоровом состоянии он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть, и «высшего бытия», не что иное, как болезнь, как нарушение нормального состояния, а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. И однако же он все‑таки дошел, наконец, до чрезвычайного парадоксального вывода: «Что же в том, что это болезнь, — решил он, наконец, — какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, мерь(, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни». Эти туманные выражения казались ему самому очень понятными, хотя еще слишком слабыми. В том же, что это действительно «красота и молитва», что это действительно «высший синтез жизни», в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить. Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилием самосознания, — если бы надо было выразить это состояние одним словом, — самосознания и в то же время самоощущения в высшей степени непосредственного. Если в ту секунду, т. е. в самый последний сознательный момент пред припадком, ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: «Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!», то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни». Еще ярче изображает этот опыт Кириллов в беседе с Шаговым: «Есть секунды, их всего за раз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: «Да, это правда». Бог когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: «Да, это правда, это хорошо». Это… это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, о, — тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически» («Бесы», ч. III, гл. V, 5).
Если бы душевная жизнь Достоевского руководилась одними лишь добрыми чувствами и возвышенными стремлениями, о которых шла речь выше, то Достоевский весьма приближался бы к святости. Но у него была и другая сторона души, уходящая глубоко в область подземного
20
хаоса. «У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие», — признает он сам в одном из писем к брату Михаилу (I, № 33). Яновский указывает на его «беспримерное самолюбие и страсть порисоваться» (стр. 819). Расхваленный Некрасовым и Белинским после знакомства их с рукописью «Бедных людей», Достоевский вошел в литературные круги Петербурга ' сразу как признанный писатель. Голова у него закружилась от упоения своим успехом.
«Ну, брат, — пишет он Михаилу, — никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогей, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь' втопчет. Соллогуб обегал всех и, зашедши к Краевскому, вдруг спросил его: «Кто это Достоевский? Где мне достать Достоевского?» Краевский, который никому в ус не дует и режет всех напропалую, отвечает ему, что Достоевский не захочет вам сделать чести осчастливить вас своим посещением. Оно и действительно так: (мерзавец) аристократишка теперь становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки. Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то‑то сказал, Достоевский то‑то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более. На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал) и с первого раза привязался ко мне такою привязанностью, такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня» (I, № 31).
«Явилась целая тьма новых писателей, — говорит Достоевский через несколько месяцев. — Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. Их ужасно хвалят. Первенство остается за мною покамест, и надеюсь, что навсегда» (I, № 33).