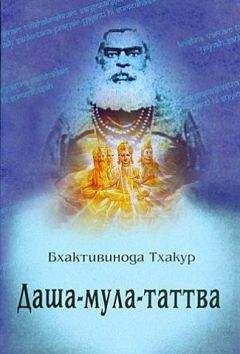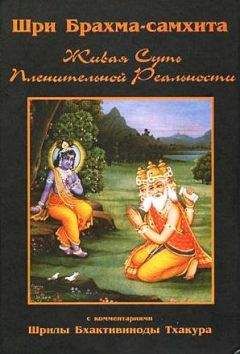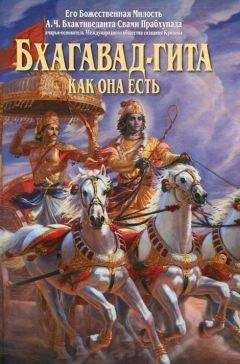Владимир Лосский - Богословское понятие человеческой личности

Обзор книги Владимир Лосский - Богословское понятие человеческой личности
Владимир
Николаевич
Лосский
БОГОСЛОВСКОЕ ПОНЯТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
(После сканирования греческий слог дан в шрифте Symbol, т. е. без ударений и придыханий)
Я не берусь излагать то, как понимали человеческую личность отцы Церкви или же какие-либо иные христианские богословы. Даже если бы мы и хотели за это взяться, следовало бы предварительно спросить себя, в какой мере оправдано само наше желание найти у отцов первых веков учение о человеческой личности. Не было бы это желанием приписывать им мысли, вероятно, им чуждые, но которыми мы, тем не менее, их наделили бы, не отдавая себе ясного отчета в том, как зависимы мы в самом методе нашего суждения о человеческой личности от сложной философской традиции — от образа мысли, следовавшей путем весьма отличным от того, который можно было бы считать путем собственно богословского предания? Во избежание подобной бессознательной сбивчивости, а также злоупотребления сознательными анахронизмами, когда вкладываешь что-то от Бергсона в свт. Григория Нисского или что-то от Гегеля в преп. Максима Исповедника, мы пока что воздержимся от всякой попытки найти в святоотеческих текстах развернутое учение (или учения) о личности человека. Я же лично должен признаться в том, что до сих пор не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением о личности человеческой, тогда как учение о Лицах, или Ипостасях, Божественных изложено чрезвычайно четко. Тем не менее, христианская антропология существует как у отцов первых восьми веков, так и позднее, как в Византии, так и на Западе, и нет сомнений в том, что это учение о человеке личностно, персоналистично. Разве могло бы оно быть иным в богословской мысли, основанной на Откровении Бога живого и личного, создавшего человека «по Своему образу и подобию»?
Итак, я не буду проводить исторического исследования христианского вероучения, а ограничусь только изложением некоторых богословских мыслей о том, каким же требованиям должно отвечать понятие человеческой личности в контексте христианской догматики. Прежде чем спрашивать, что в богословском контексте есть человеческая личность, мы должны сказать несколько слов о Лицах Божественных. Этот обзор не отвлечет нас от нашей темы.
Чтобы наилучшим образом выразить присущую Богу реальность личностного или, вернее, выразить реальность личного Бога, — а реальность эта есть не только домостроительный модус проявления безличностной в Самой Себе Монады, но первичное и абсолютное пребывание Бога-Троицы в Своей трансцендентности, — греческие отцы для обозначения Божественных Лиц предпочли термину προσωπον термин υποστασις. Мысль, различающая в Боге «усию» и «ипостась», пользуется словарем метафизическим и выражает себя в терминах онтологических, которые в данном случае являются не столько понятиями, сколько условными знаками, отмечающими абсолютную тождественность и абсолютную различимость. В своем желании выразить «несводимость» ипостаси к усии, несводимость личности к сущности, не противопоставив их при этом как две различные реальности, святые отцы провели различие между двумя данными синонимами, что действительно было терминологической находкой, позволившей сказать свт. Григорию Богослову: «Сын не Отец (потому что есть только один Отец), но Он то же, что Отец. Дух Святой, хотя Он исходит от Бога, не Сын (потому что есть только один Единородный Сын), но Он то же, что Сын» [1]. Ипостась есть то, что есть усия, к ней приложимы все свойства — или же все отрицания, — какие только могут быть сформулированы по отношению к «сверхсущности», и, однако, она остается к усии несводимой. Эту несводимость нельзя ни уловить, ни выразить вне отношения трех Ипостасей, которые, собственно говоря, не три, но «триединство». Когда мы говорим «три Ипостаси», то уже впадаем в недопустимую абстракцию: если бы мы и захотели обобщать и найти определение «Божественной Ипостаси», надо было бы сказать, что единственное обобщающее определение трех Ипостасей — это невозможность какого бы то ни было общего их определения. Они сходны в том, что несходны, или же, превосходя относительную и неуместную здесь идею сходства, мы должны были бы сказать, что абсолютная их различимость предполагает и абсолютное их тождество, вне которого немыслимо говорить об ипостасном триединстве. Как «три» здесь не количественное число, а знак бесконечного превосхождения диады противопоставлений триадой чистых различений (триадой, равнозначной монаде), так ипостась как таковая и к усии несводимая — это не сформулированное понятие, а знак, вводящий нас в сферу необобщимого и отмечающий существенно личностный характер Бога христианского Откровения.
Однако усия и ипостась — всё же синонимы, и каждый раз, когда мы хотим установить четкое разграничение между этими двумя терминами, придавая им тем самым различное содержание, мы вновь неизбежно впадаем в область концептуального познания: общее противопоставляем частному, «вторую усию» — индивидуальной субстанции, род или вид — индивидууму. Это мы и находим, например, в следующем тексте блж. Феодорита Киррского: «Согласно языческой философии, между усией и ипостасью нет никакой разницы: усия обозначает то, что есть (το ον), а ипостась — то, что существует (το υψεστος). По учению же отцов, между усией и ипостасью та же разница, что между общим и частным, то есть между родом или видом и индивидуумом» [2]. Такая же неожиданность подстерегает нас и в «Диалектике» преп. Иоанна Дамаскина, в этом своеобразном философском зачине к его изложению христианского вероучения. Дамаскин пишет: «У слова "ипостась" два значения. Иногда оно просто обозначает существование (υπαρξις), и в этом случае усия и ипостась суть понятия равнозначные. Поэтому некоторые отцы и говорили: «природы (ψυσεις) или ипостаси». Иногда же слово это указывает на то, что существует само по себе, по собственной своей субстанции (την κατ αυτο και ιιοσυστατον υπαρξιν). В этом смысле это слово обозначает индивидуума (το ατομον), который нумерически отличен от всякого иного, например, Петр, Павел, некоторая лошадь» [3].
Ясно, что подобное определение ипостаси могло быть лишь подходом к троическому богословию, как бы отправной точкой на пути от концептов к понятию «деконцептуализированному», которое уже больше не есть понятие индивидуума, принадлежащего к некоторому роду. Если отдельные критики и видели в учении святителя Василия Великого о Троице различение υποστασις и ουσια, соответствующее аристотелевскому различению πρωτη и δευτερα ουσια (первой и второй природы), то это говорит лишь о том, что они не сумели отличить точки прибытия от точки отправления, богословского здания, воздвигнутого за пределами концептов, от его концептуальных лесов и подмостков.
В троическом богословии (которое для отцов первых веков было «богословием» по преимуществу, «теологией» — в прямом смысле слова) понятие «ипостась» не равно понятию «индивидуум» и «Божество» не есть некая «индивидуальная субстанция» Божественной природы. То различение понятий, выраженных синонимами, которое Феодорит приписывает отцам, есть не что иное, как подход через определения к неопределимому. Феодорит, по существу, был неправ, когда введенное отцами различение противопоставлял тождеству этих двух терминов в «философии мира». Он действительно был больше историком, нежели богословом, и увидел в оригинальной синонимике двух выбранных отцами терминов для обозначения в Боге «общего» и «частного» лишь исторический курьез. Но для чего же было выбирать эту синонимику, как не для сохранения за «общим» значения конкретной усии и исключения из «частного» всякой ограниченности, свойственной индивидууму? Не для того ли был сделан этот выбор, чтобы понятие «ипостась» распространилось на всю общую природу, а не дробило бы ее? Если это так, то установленную отцами богословскую истину различения усии и ипостаси следует искать не в буквальности понятийного, концептуального выражения, а между ним и тождеством этих двух понятий, свойственном «философии мира». Иными словами, истину нам надо искать за пределами понятий: они очищаются и становятся знаками личностной реальности Того Бога, Который не есть ни Бог философов, ни (увы, слишком часто) Бог богословов.
Попытаемся теперь найти тот же внеконцептуальный смысл различения ипостаси и усии, или природы [4], в христианской антропологии.
Несводимость ипостаси к сущности или природе, та несводимость, которая, раскрывая характерную ипостасную неопределимость, заставила нас отказаться от тождественности между ипостасью и индивидуумом в Троице, присуща ли она также сфере тварного, в частности, когда речь идет об ипостасях, или личностях, человеческих? Ставя этот вопрос, мы тем самым ставим и другой: отразилось ли троическое богословие в христианской антропологии; раскрыло ли оно новое измерение «личностного», обнаружив понятие ипостаси человеческой, также несводимой к уровню индивидуальных природ, или субстанций, столь удобно вписывающихся в концепты и легко располагаемых в «логическом древе» Порфирия?