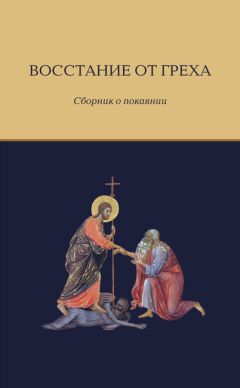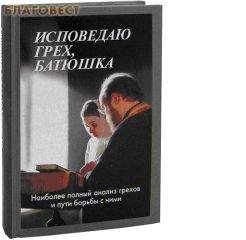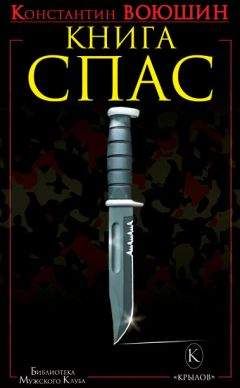Михаил Новоселов - Догмат и мистика в Православии, Католичестве и Протестантстве
«В догматизировании, в применении логического начала к нежному и неизъяснимому евангельскому изложению привзошло смертное начало, «неодушевленная гли{48}на» — к юному телу первозданного христианства. Христианство перестало быть умилительно «с догматом», и на него перестали умиляться. Просто — его перестали любить. Вот великий факт, против которого «догматисты» зажгли на западе костры, у нас — срубы, не понимая, что дело не в ереси и не в еретиках, а в том, что самими догматистами введен был в христианство главный и первоначальный яд: срыв момента умиления и замена его моментом мнимой убедительности, доказательности... Вместо умиления к Писанию стали его исследовать, расчленять, анатомировать, расстригать на строчки («тексты») — и изъяли весь его аромат.
«Хула на Духа Святого не простится ни в жизни сей, ни в будущей. Вот, проступком против Него и является догматизм как метод… Отсутствие надежды на Бога, да и не ее одной — «веры, надежды и любви» — вот что сказалось в догматизме христианском. Теперь эти три добродетели только присловие в разговорах. Как и «догмат о Троице» — это какой-то арифметический треугольник, из которого не мерцает ни которое, в сущности, лицо»…
{49}
Ту же мысль находим мы у другого критика нашего школьного богословия.
«Как у хранителя музея египетских древностей к религии древних фараонов, — читаем мы у него, — так и у современных богословов, самых добросовестных, может не быть никакого религиозного отношения к самой сущности учения Христова, но может быть поразительный душевный позитивизм».
«Вообще, нам, профанам, всего поразительнее отсутствие удивления, умиления в богословах, отсутствие всякого художественного волнения. Мы, невежды, даже тексты перевираем, ив этом девственном незнании, в этой богословской нетронутости — вся наша сила. Мы еще простодушны, мы еще удивляемся, умиляемся, у нас еще дух захватывает от некоторых текстов, с которыми гг. богословы обращаются, как безграмотный сторож библиотеки с драгоценными палимпсестами Гомера… Богословы слишком привыкли к христианству. Оно для них серо, как будни. И самое яркое в христианстве, что нас жжет, как огонь, в руках богословов гаснет, становится холодным или, хуже того, чуть-чуть тепленьким пеплом».
{50}
«Положение христианства, — по мнению раньше цитированного писателя, — не только не умиротворено, но оно полно решительного отчаяния, уже не от нападок на него, но от равнодушия к нему: потому что внутри его собственных стен сидит несколько Акакиев Акакиевичей, несколько Собакевичей, которые спорят о каких-то мертвых душах и что-то между собою делят».
Нетрудно видеть, что как у Гарнака, так и у наших, русских писателей основанием для их критики школьного богословия является пренебрежение со стороны последнего мистическим моментом. Правда, писатели эти разумеют под последним вовсе не то, что разумели святые Симеоны, Исааки, Григории и другие таинники Христовы. Глубина этико-религиозных, таинственных переживаний, которыми характеризуется истинно христианский путь, подменена у них сравнительно поверхностными, художественными волнениями с религиозной окраской. Их мистицизм несоизмерим качественно с тем существенным проникновением в потусторонний мир, о котором мы {51} знаем из Нового Завета и отцов Церкви. «В первохристианских общинах просвещение и восторг новой жизни, чудо полного обновления переживалось с какою-то даже страшною силой, объективностью своею оно поражало самих христиан не меньше, чем окружающих язычников». Ничего подобного мы не найдем, конечно, у современных декадентствующих мистиков вследствие аморальности их воззрений.
Причина — подмена живой веры рассудочным богословствованием.
Чем же объяснить этот подмен живой веры и духовного ведения безжизненным догматизмом? Почему внутреннее, опытное познание сменяется отвлеченными, рассудочными построениями?
«Три суть на земли: вера, надежда, любы», — говорит ап. Павел, понимая веру в данном случае не как «здравое исповедание», но как оную мысленную силу, «воссиявающую в душе от света благодати», «священнодействующую между Богом и святыми неизреченныя таинства», свидетельством совести возбуждающую великое упование на Бога (св. Исаак Сирин).
{52}
В своем существе она такова и есть — исключительно внутренне-духовное, опытное познание, познание, передаваемое другим не в логических формулах, а в образах, аналогичных естественным внутренним опытам и состояниям человека (см., например, св. Макария Египетского). Но человеку (а не вере) свойственно формулировать свои опыты, укрепляя в сознании и чувстве логическим процессом то, что изменчиво в нем (т. е. в человеке) по силе и ясности в акте непосредственного религиозного созерцания; отсюда — логическая сторона религии.
Это-то соотношение составных частей религиозного мироотношения и служит первым источником уклонения от правильного пути к Истине.
Основные свойства религиозного мироотношения, указанные ап. Павлом, трудны и с трудом достаются (ибо «житием познаются тайны»); логическая же сторона легче, и вот вера заменяется правоверием, т. е. правильным мнением, и то, что в религиозном синтезе должно занимать последнее место, естественно (т. е. в согласии с поврежденным {53} естеством человека, которое ищет того, что легче) становится на первое место.
Представление о правильном движении к Истине (
«не ощутят ли Бога?»
Деян. 17, 27) подменяется представлением о правильном мнении об Истине (православия — правоверием) .
Так как процесс искания Истины (цель коего — ощущение) не логический, а опытно-критический, то переоценка логического (рационального) элемента убивает процесс искания; на этой переоценке и основан факт вырождения живых религиозных верований: опыт учителя подменяется изучением его воззрений.
Припомним определение догмата, данное нами на основании учения святых подвижников:
«Догматы суть санкционированные Церковью и указующие верующим путь спасения словесные формулы (выражения) тайн Царствия Божия, чрез деяние и опыт открывающихся христианину в благодатном ощущении и в конкретно-духовном созерцании».
Поэтому живой процесс духовного развития характеризуется соответствием опыта {54} с формулой. Так, например, человек, исповедующий догмат Искупления, должен если не созерцать великих глубин сей Тайны, то, по крайней мере, ощущать на себе, в глубине души своей, спасительное действие ее. Если же человек начинает настаивать на признании для себя формулы, ему еще чуждой, и переносит центр тяжести с сущности на знак, ее выражающий, он впадает в двойной грех: 1) в самообольщение и 2) в застой.
Первый грех вытекает неизбежно из того, что рационально (мечтательно) принятые догмы дают иллюзию действительного обладания обозначаемых ими предметов, и тем самым не может не порождаться самопереоценка: ибо органический рост усвоения той или другой религиозной формулы рождает в человеке новый порядок ощущений с новыми требованиями к себе и к миру, чего не бывает при воображаемо-усвояемой формуле, т. е. при интеллектуальном восприятии.
Во второй грех человек впадает опять потому, что иллюзия обладания истиной не дает тех импульсов к ее исканию, какие являются при сознании ее отдаленности. В {55} этом случае человек, формулирующий своими словами действительно (т. е. в опыте) им постигнутое, ближе к Богу (Истине — в смысле ее достижения), чем тот, кто по ошибке принимает чуждую формулировку за свою (хотя бы объективно она была и правильнее). Никео-Цареградский Символ исповедуют премногие-многие, но для многих ли он является выражением их подлинной веры? Ведь вера есть ощущение («обличение») невидимого и потому уверенность в нем, как бы в видимом. Уверенность же (не по ощущению) в невидимом не дает еще его «обличения», ибо эта уверенность может истекать из других основ, например, традиции, привычки и т. п. В лучшем случае можно быть уверенным по слову другого («вера от слышания»), но чтобы верить действительно по слову другого, надо усвоить в той или другой мере и порядок ощущений другого (переход «веры от слышания» в «веру опыта», обличающую невидимое). Этот переход совершается чрез «боголюбивое деяние». А так как последнее несравненно труднее, чем умственная игра отвлеченными началами, то вселенская {56} формула христианской веры большею частью остается грандиозным древом, но лишенным листвы, в которой укрывались бы птицы, и плодов, которыми бы они питались.
{57}
Книга 2 Спасение и Вера по православному учению [5]