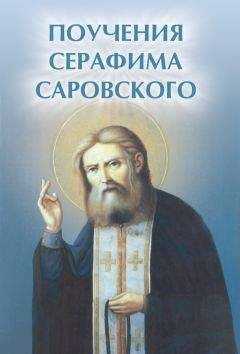С. А. Левицкий - Трагедия свободы
Экстравертированные лица, вообще говоря, лучше приспособляются к окружающим их условиям, чем «интраверты»[240]. Но гипертрофированные экстраверты за счет приспособляемости больше склонны к обезличиванию, нередко вплоть до полной перемены своего национального лица.
Некоторые из них страдают патологической жаждой новизны — и тогда легко становятся авантюристами. В основе такой установки лежат два начала: одно — положительное, другое — отрицательное. Положительным здесь является здоровый страх перед косностью, стремление вырваться из круга устоявшихся навыков. Отрицательным — патологический страх перед исполнением своего предназначения, обязывающего к определенному «месту» в жизни. Такие люди до такой степени самоот–чуждаются, что несмотря на внешнюю общительность, они не способны к подлинному общению и бывают не менее «асоциальными» (хотя и с другой стороны), чем чеховские «люди в футляре».
Нет нужды перечислять все возможные и действительные пути бегства от реальности (внешней или внутренней), обусловленного патологическими фобиями и страхами. Важно, однако, отметить, что страх делает нас несвободными и что на дне всех фобий таится страх, большей частью выражающий себя в символической форме.
Таким образом, разными путями и под разными защитными масками страх делает нас рабами. Страх — величайшее препятствие на пути к достижению свободы. Лишь побеждая страх, становимся мы свободными. Но задача преодоления страха — почти сверхчеловеческая задача. Страх настолько глубоко укоренен в нас, что победа над одной формой страха обычно сопутствуется победой страха над нами в другом каком–нибудь отношении. Гони страх в дверь, он влезет в окно.
Есть только один путь тотальной победы над страхом — живая вера в Бога, сопутствуемая трепетом перед вечной тайной, но и доверием к конечной благости. «Единственное, что может помочь против софизмов страха, — это мужество веры», — говорит Киркегор[241].
Победа над страхом возможна только тогда, когда мы забываем о своей самости, когда мы преодолеваем свой почти неискоренимый эгоцентризм, когда мы стремимся к чему–либо и действуем не ради себя, а ради того, что бесконечно выше нас самих. Но это и значит, что победа над страхом возможна только с помощью Божьей, когда мы полагаем центр нашего существа не в нас самих, а в Боге. «Выйди из себя ради Бога, чтобы Бог ради тебя сделал то же» (Angelus Silesius). Тогда и страх сублимируется в трепетное благоговение — в благодетельный страх Божий, называемый страхом только по аналогии, а не по сути дела. Только в этом преисполнении страхом Божьим — залог победы над дурными человеческими и нечеловеческими страхами, которыми бывает полна наша душа. Соблазн голого самоутверждения и обратная сторона его — инстинкт саморазрушения — неизбежно порождаются и сопровождаются страхом, латентным (в первом варианте) или явным (во втором). Ибо в основе как самоутверждения, так и голого самоотрицания лежит тот же эгоцентризм — в первом случае горделивый, во втором — отчаявшийся. Ничего общего ни с тем, ни с другим не имеет подлинное самоотречение, где самоотвержение сублимируется в стояние за свою веру и где самоотрицание сублимируется в самоотречение.
Страх и времяСтрах интимно связан со временем. Если латентный страх (боязнь) есть особое состояние сознания» то явный страх есть всегда «интенци–ональный» феномен, направленный на предвосхищаемое будущее. Мы всегда ожидаем будущего так же, как мы всегда помним о прошлом. В этом смысле страх есть форма предвосхищающего ожидания. Прошлое может возбуждать в нас отвращение, раскаяние, но никогда не страх. Ибо прошлое уже «стало», бояться же можно лишь того, что «будет». Но «будет», возбуждающее страх, уже частично входит в «есть», в настоящее. Неопределенно отдаленное будущее, как правило, не возбуждает страха. Лишь предстоящее настоящему, то есть ближайшее будущее, вызывает страх. Момент страха есть «онастоящивание» грозного будущего. Предвосхищаемое благо вызывает надежду, упование. Страх и надежда — два полюса эмоционального предвосхищения будущего, два полюса человеческого отношения к будущему. Жизнь человеческая колеблется между страхом и надеждой, ибо мы все живем более в будущем и будущим, чем только настоящим. Живущие только настоящим освобождают себя от страха и надежды, но это освобождение — мнимое. Ибо не ожидать будущего так же невозможно, как невозможно не вспоминать. Поэтому в «эпикурейцах» страх лишь загнан в подполье души — но у них именно поэтому сильнее напряжение «латентного» страха.
Страх тесно связан со свободой — точнее говоря, страх есть отрицательное состояние свободы. Это следует из категориальной направленности страха на царство возможностей. Именно грозящая возможность возбуждает страх. Страх есть эмоциональное доказательство реальности свободы, ибо необходимость, стопроцентно реализованная в представлении, возбуждала бы не страх, но лишь отчаяние или резиньяцию. В отчаянии человек уже отказался от свободы, в страхе он еще боится утери свободы, то есть боится за свободу. Страх есть эмоциональное доказательство от противного реальности свободы. «Страх — действительность свободы, данная как возможность возможности» (Киркегор).
Всякий страх есть страх конца — конца возможностей, конца самого времени. Мы боимся будущего, несущего нам неизвестность. Но неведо–мость будущего — относительна. Мы знаем, что будущее будет. Поэтому, как правило, мы более опасаемся будущего, чем, собственно, боимся его. Но предел страха — предвосхищение отсутствия будущего. Это и есть страх смерти, когда мы предвосхищаем, что будущего не будет, когда будущее оборачивается в Ничто. Страх перед вечностью предваряется страхом перед Ничто, ибо для погруженного в поток времени вечность есть Ничто.
Но в вечности есть великое утешение как в месте, где «нет воздыхания», где наши страдания разрешаются в великом забвении. Поэтому для тех, кто во времени ощутил дыхание вечности, меняется метафизическая перспектива страха: для них само время становится «страшным», вечность же дает надежду на разрешение от страхов. Всякое время, метафизически говоря, является «страшным», и наше страшное время страшно именно тем, что отобщено от вечности. Слишком многие в наше время не имеют времени для вечности, и вечность мстит за забвение о себе малыытремизацией времени и интенсификацией страха.
Чем более этот страх подавляется, тем интенсивнее нервное напряжение, и оттого неврозы расцвели таким пышным цветом именно в наше страшное время. Психолог Юнг свидетельствует о том, что наше подсознание в норме имеет тенденцию приспосабливаться к страху смерти, в то время как в наше неестественное время слишком стремятся изгнать из быта всякое напоминание о вечности[242]. Поэтому в наше время умирают более неестественно, более страшно, чем в былые времена, когда более помнили о смерти и поэтому менее боялись ее. Еще индусы представляли себе бога смерти двуликим: одно лицо его страшно, другое — исполнено свободы и нездешней радости.
Смерть страшит, но она же освобождает, и тот не познал свободы, кто не знает, что такое «свобода к смерти». Эта «свобода к смерти» имеет свои глубокие метафизические корни.
Положительная свобода есть воплощение сущего в бытии — воплощение, сопровождающееся муками творчества, муками рождения нового. В этом процессе сущее становится бытием, возможность — действительностью. Первично свободный творческий порыв как бы застывает в необходимость. Ибо все продукты творчества должны сообразовываться с законом причинности, и свободный порыв должен принести плод в мире необходимости. Высшая цель творчества — овладение сущего бытием — предшествуется предварительным приспособлением сущего к бытию, приспособлением свободы к необходимости. Отсюда — вечная неудовлетворенность Творца своим творчеством, вечное несоответствие замысла исполнению. Свобода должна сначала обернуться необходимостью, прежде чем она снова вернется к себе, пройдя искус воплощения.
Но никакое сущее не может вечно удерживаться в бытии. Приходит момент, когда сущее должно совершить обратный процесс — развопло–титься. Кроме мук воплощения, существуют муки развоплощения. Муки рождения когда–то завершаются предсмертной агонией. Страх смерти врожден всему существующему, и предсмертная тоска невыносима.
Но последнее слово смерти — не страх, а успокоение — «вечный покой», отпечаток которого виден на лицах умерших. Смерть — мучительна. Но она же приносит нам величайшее освобождение от тягот воплощенного бытия. И как творческая радость превозмогает муки творчества, так нездешняя радость смерти превозмогает муки развоплощения.