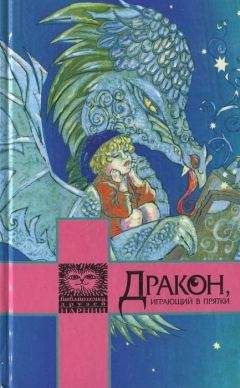Гилберт Кийт Честертон - Сочинения
Вокруг него стояли братцы в бурых одеждах, и они любили его, хотя потом и спорили между собой. Бернард, его первый друг, и Ангел, его помощник, и Илия, его преемник, которого предание пыталось приравнять к Иуде, хотя он, наверное, был не хуже чиновника, занявшего чужое место. Беда его в том, что под францисканской одеждой билось не францисканское сердце или францисканский капюшон покрывал не францисканскую голову. Он не был хорошим францисканцем, но мог бы стать хорошим доминиканцем. Франциска он, во всяком случае, любил; даже последние негодяи любили Франциска. Как бы то ни было, он стоял с другими, а часы уходили, и удлинялись тени в доме Порциункулы. Не надо думать о нем плохо, не надо подозревать, что он уже лелеял в мыслях будущие разлады, ссоры и самолюбивые распри осиротевших братцев.
Наверное, птицы узнали, когда это случилось, и всполошились на вечернем небе. Когда–то, повинуясь знаку, они полетели на четыре стороны света и образовали крест; сейчас таким же пунктиром они могли бы начертить на небе знаки новых пророчеств. В лесу притаились маленькие твари, которых никто с той поры не сумел так пожалеть и понять. Говорят, животные чувствуют то, чего не чувствуем мы, их духовные владыки; и я не знаю, встревожились ли воры, изгои и преступники, догадались ли они, что случилось с тем, кто не умел презирать.
Но в переходах и портиках Порциункулы все застыло, и люди в бурых одеждах обратились в бронзовые изваяния, ибо остановилось сердце, которое не могло разбиться, пока держало мир.
Глава 10. ЗАВЕТ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА
Конечно, хотя бы в одном смысле есть грустная ирония в том, что святой Франциск, который всю свою жизнь хотел согласия, умер среди растущих неладов. Но не надо, подобно многим, преувеличивать эти разногласия и говорить о крушении его идеалов. Не надо думать, что дело его рухнуло под тяжестью порочного мира или, как теперь считают, еще более порочной Церкви.
Я пишу о святом Франциске, а не о францисканском ордене, тем более не о католической Церкви, и не о папстве, и не о том, как отнеслись Церковь и папа к крайним францисканцам. Поэтому я очень кратко расскажу о разладе, который последовал за смертью великого святого и омрачил его последние дни.
Речь шла в основном об обете бедности, об отказе от собственности. Насколько я знаю, никто не спорил с тем, что у францисканца не должно быть личной собственности. Наоборот, некоторые францисканцы, взывая к авторитету Франциска, шли дальше, чем он, и, наверное, дальше кого бы то ни было. Они предлагали уничтожить не только личную собственность, но и собственность вообще. Они отказывались владеть сообща орудиями, зданиями или запасами; отказывались владеть даже тем, чем уже владели. Без всякого сомнения, многие, особенно вначале, были бескорыстно и глубоко преданы делу святого. Но нет сомнения в том, что папа и Церковь не сочли их планы разумными и выполнимыми и возразили им, хотя ради этого пришлось поступиться кое–чем из завещания. Совсем нелегко доказать, что монахи распорядились имуществом правильно или распорядились вообще, ибо они отказались чем бы то ни было распоряжаться. Всякий знал, что францисканцы — коммунисты, но эти были скорее анархистами. Многие идеалисты социалистического толка, особенно последователи Шоу[246] или Уэллса, представляют этот разлад как насилие могущественных и злых церковников над истинным, то есть социалистическим, христианством. В действительности же крайний идеал был прямо противоположен социализму и всякой социальности. Сторонники крайности отрицали именно то совместное владение, на котором стоит социализм; они отказались от того, ради чего социалисты существуют. Неверно также, что папы обращались с крайними францисканцами грубо и враждебно. Папа очень долгое время придерживался компромисса — он как бы взял в залог, под опеку ту собственность, от которой они отказались. Случай этот напоминает нам о двух вещах, очень обычных в истории католичества, но непонятных поверхностным историкам нашей индустриальной цивилизации. Нередко святые были великими людьми, а папы — самыми посредственными. Но великие люди часто бывают не правы, а посредственные — правы. В конце концов, всякому честному и объективному человеку трудно отрицать, что папа был прав, когда он настаивал на том, что мир создан не только для францисканцев.
В этом и была суть разлада. За частным вопросом скрывался другой, гораздо более глубокий, и мы ощущаем его, читая о спорах. Изложим истину хотя бы так: святой Франциск был настолько велик и необычен, что мог бы основать новую религию. Многие его последователи были в той или иной мере готовы счесть его именно основателем религии. Они хотели, чтобы францисканский дух вырвался из христианства, как христианский дух вырвался из Израиля; чтобы он затмил христианство, как оно затмило Израиль. Святой Франциск — блуждающий огонь на дорогах Италии — должен был разжечь пожар, в котором сгорела бы христианская цивилизация. Это и озаботило папу. Он решал, христианству ли впитать Франциска или Франциску — христианство, и решил правильно, ибо Церковь могла включить все, что есть во францисканстве хорошего, но францисканцы не могли включить все, что есть хорошего в Церкви.
Всякий, кто не видит, что католический здравый смысл шире, чем францисканский пыл, не понимает очень важной вещи, связанной с лучшими свойствами того, кем они по праву восхищаются. Франциск Ассизский, как мы говорили много раз, был поэтом; а значит это, что он был из тех, кто выражает себя. У таких людей даже их недостатки идут им на пользу. Поэт обязан своей неповторимостью и тому, что в нем есть, и тому, чего в нем нет. Но в рамку, окаймляющую портрет человека, нельзя втиснуть все человечество. В святом Франциске, как и во всех гениях, даже отрицательное — положительно, ибо это часть их личности. Прекрасный тому пример — его отношение к учености и науке. Он мало знал и, в сущности, отрицал книги и книжность. Со своей точки зрения, с точки зрения своего дела он был совершенно прав. Он хотел быть таким простым, чтобы деревенский дурачок его понял, – в этом суть его вести. Он взглянул впервые на мир, который мог быть создан только что, утром, – в этом суть его видения. Кроме дней творения, рая, Рождества и Воскресения, у мира не было истории. Но так ли уж хорошо, так ли необходимо, чтобы истории не было у Церкви?
Наверное, я прежде всего хотел показать, что святой Франциск ходил по миру, как Божье прощение. Он пришел — и человек получил право примириться не только с Богом, но и с природой и, что еще труднее, с самим собой, ибо приход его означал, что ушло застоявшееся язычество, отравившее античность. Он открыл ворота Темных веков, как ворота тюрьмы или чистилища, где люди очищали себя покаянием в пустыне или подвигами в бою. Он передал им, что они могут начать сначала, то есть разрешил им забыть. Люди могли открыть новую, чистую страницу и вывести на ней большие первые буквы, простые и яркие, как буквицы средневековой рукописи; но для такой детской радости было нужно, чтобы они перевернули страницу, запятнанную кровью и грязью. Я уже говорил, что в стихах первого итальянского поэта нет ни следа языческой мифологии, которая надолго пережила язычество. Быть может, он, единственный в мире, не слышал о Вергилии[247]. В сущности, так оно и должно быть, ведь он был первым итальянским поэтом. Он и должен называть соловья соловьем, ибо песнь его не запятнана ужасными преданиями об Итисе и Прокне[248]. Да, вполне правильно и даже хорошо, если святой Франциск не слышал о Вергилии. Но хотим ли мы на самом деле, чтобы о Вергилии не слышал Данте? Хотим ли мы, чтобы Данте не знал языческой мифологии? Ведь у Данте эти предания и впрямь служат правоверию; могучие языческие образы, скажем, Минос или Харон[249], лишь наводят на мысль о великой естественной религии, с самого начала, позади всей истории, возвещающей о вере. Хорошо, что в Dies irae[250] есть не только Давид[251], но и Сивилла[252]. Конечно, святой Франциск сжег бы все листы Сивиллиных книг ради одного листка с соседнего дерева. Но мы рады, что у нас есть Dies irae, а не только Гимн Солнцу.
Святой Франциск пришел в мир как приходит младенец в темный дом, снимая с него проклятие. Он растет, ничего не зная о минувшей беде, и побеждает ее своей невинностью. Не только невинность необходима ему, но и неведение; он должен играть в зеленой траве, не догадываясь, что под нею зарыт убитый, и карабкаться на яблоню, не зная, что кто–то на ней повесился. Такое прощение и примирение принес миру свежий ветер францисканского духа. Но это не значит, что весь мир должен был перенять это неведение. А многие францисканцы хотели бы, чтобы он перенял. Довольно многие францисканцы хотели, чтобы францисканская поэзия изгнала прозу бенедиктинцев. Для ребенка из нашей притчи это вполне естественно. Для ребенка мир должен быть большой свежевыбеленной детской, на стенах которой он может рисовать мелками те неуклюжие, яркие картинки, с которых началось все наше искусство. Он вправе считать свою детскую самой лучшей комнатой, какая только бывает. Но в Доме Господнем обителей много[253].