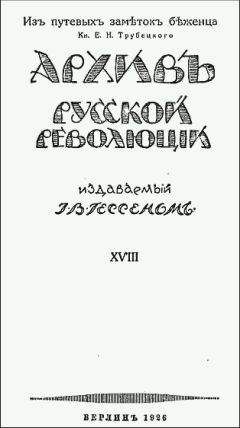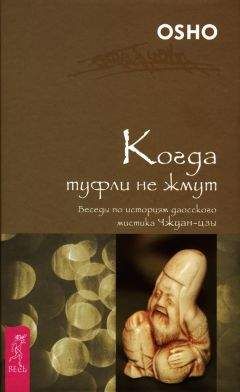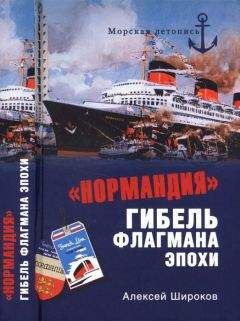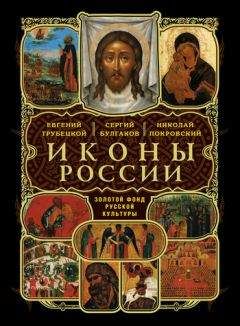Евгений Трубецкой - Смысл жизни
Раз это откровение божественной идеи явилось в ясном сознании человека и стало началом всеобщего дружества на земле, день Божий как будто достигает своего зенита. По–видимому, мы имеем здесь то абсолютное откровение творческого замысла, которое завершает его раскрытие. В созерцании достигнутого совершенства религиозное искание находит себе успокоение. Соответственно с этим и в Библии весь рассказ о сотворении мира завершается седьмым днем покоя, который непосредственно следует за созданием человека. Но тут же перед нами открывается новая глубина религиозной интуиции. В мысли о человеке религиозное искание не может найти своего окончательного успокоения. Идиллия земного рая его не удовлетворяет: она представляется ему чем‑то несовершенным, наивным, детским. И эта инстинктивная неудовлетворенность религиозного чувства, которая связывается с мыслью о земном рае, имеет глубокие метафизические и религиозные основания. Ясное сознание человека, познающего тварь и нарекающего ей имя, не есть еще окончательное, полное явление Божьего дня: и в нем таятся противоположные, непобежденные еще темные возможности и темные ночные силы: именно сознание свободного, самоопределяющегося существа вносит в мир новую возможность бунта и сопротивления.
Тут опять внутреннее свидетельство религиозного чувства находится в полном согласии с объективным откровением Библии. Там седьмой, надземный день вечного покоя не совпадает с шестым, последним днем земного творения. Этот вечный покой оказывается потусторонним миру. Бог находит его в Самом Себе, а не в человеке. Пропасть так и остается незаполненной: рай разрушается грехом, а мир, погруженный в хаос, отделяется от дневной сферы вечного покоя огненным мечом херувима.
И опять в этой отделенной от своего конца и смысла, мятущейся во времени жизни мира мы находим хорошо знакомый нам ночной облик твари: проклятие земли, полной гадами и произрождающей волчцы и терния, тяжкие труды в борьбе за существование и тяжкий грех братоубийства: словом, — полная картина разрушения строя и лада космоса, отвратительное царство бессмыслицы как логически необходимый результат утраты человеком смысла мира. Но в человеке этот хаос усугубляется и углубляется. Ибо в его свободе впервые обнаруживается вся полнота присущей твари способности безмерного сопротивления божественному замыслу, вся доступная ей бездонная глубина падения. Тут бессмыслица — не простое отсутствие смысла, ибо человеку доступны сатанинские глубины сознательного отрицания и богоборчества. Здесь ночь — не простое отсутствие света, а та катастрофическая тьма, которая побеждается только величайшим страданием крестного пути.
Когда мы читаем библейский рассказ о первозданном Адаме, мы чувствуем, что в нем речь идет о каждом из нас, что перед нами изображение нашего общечеловеческого духовного опыта. Прежде всего полно всечеловеческого смысла указание на богоподобие человеческого сознания, — печать высокого призвания человека, титул его владычества на земле и в то же время источник величайшего искушения, — той прелести богоотступничества, которая значит в словах: будете как боги, знающие добро и зло (Быт., III, 5). Это — вековечный соблазн существа, носящего печать Богоподобия, но еще не сочетавшегося с Богом узами неразрывного и неслиянного единства, не определившегося окончательно к добру или злу. Такое Богоподобие служит источником противоположных возможностей: богоподобное существо может утвердиться в Боге или против Бога, послужить осуществлению подлинного творческого замысла в мире или кощунственной на него пародии.
Окончательное откровение всеединого смысла — не в этом, еще непобедившем двойственности Богоподобии, а в Богочеловечестве. В нем и осуществление последнего, вечного дня субботнего покоя. Все прочие дни, какие являются нам в нашем внешнем и внутреннем опыте, по сравнению с этим днем — не более, как отражения и отблески утренние и вечерние, либо ослабленные предварения, явления неполного света во времени.
Крайнее, предельное выражение ночи есть всяческая смерть — духовная и телесная, а последнее выражение дня — полнота жизни вечной, утвердившейся в субботнем покое. В Ветхом Завете этот день утверждается в недоступной человеку и миру высоте над творением. В Новом Завете, наоборот, он осязательно является в мире, определяясь окончательно как день победы над смертью, день воскресный. Через воскресенье вечный покой становится явным и доступным для твари. В сей день, его же сотвори Господь, исполняется цель и смысл всего мирового стремления. А потому в сиянии этого дня мир найдет полноту всех тех вечерних и утренних откровений, которые уже были явлены в отраженном свете несовершенных земных дней.
Когда религиозное учение выражает интуицию вечного дня в терминах физического света, это не должно быть понимаемо в смысле простого уподобления или метафоры. Раз воскресение есть совершенное, действительное восстановление природы не только духовной, но и телесной, свет будущей одухотворенной плоти не должен быть понимаем ни как только духовное, ни как только физическое явление, а как совершенное соединение того и другого, как откровение будущей духовной телесности. День Божий есть выражение полной активности всей преображенной твари, стало быть, не только мира духовного, но и мира телесного; поэтому и свет, как выражение высшей активности одухотворенного вещества, должен быть мыслим как совершенно реальное физическое явление. Таким он и представляется в Евангелии в изображении лика и риз преображенного Христа. Слова евангелиста Марка в особенности подчеркивают этот несомненно чувственный, материальный облик видения. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить (IX, 3). Так же и в многочисленных житиях святых описывается прославление человеческого лика, который становится огневидным или солнцевидным[36]. Иконописные изображения солнечного лика Христа и святых в данном случае следуют Евангелию и житиям.
Вместе с солнечным светом восстановляется во всеобщем воскресении и вся бесконечно многообразная световая гамма, причем здесь впервые открывается полнота смысла этой световой симфонии. В здешнем, земном явлении света есть полное несоответствие между физическим и духовным, между материальным явлением света и его метафизическим значением. С одной стороны, светила не одухотворены; с другой стороны, высшие явления духа облекаются в немощь и темноту. В заключительном и полном откровении всеобщего воскресения мы видим иное: там физический свет становится прозрачным выражением духовного смысла. Оттого и степени славы, согласно изречению апостола, выражаются там различными тонами и неодинаковым напряжением света. Иная слава солнца, иная слава луны, иная слава звезд; и звезда от звезды разнится во славе (I Коринф., XV, 41); это же различие степеней, как сказано, выражается в иконописи иерархией многообразных красок.
Вместе с красками воскресают и многообразные голоса и звуки. Сказанное выше о вечной божественной симфонии может быть дополнено здесь лишь немногими штрихами. — Слава, окружающая престол Всевышнего, изображается, как в пророчествах Ветхого Завета, так и в новозаветных писаниях, как мир звучащий. И это опять‑таки не должно быть понимаемо как иносказание или метафора. Звук, как и свет, в этом окружении Слова воплощенного должен пониматься в двояком смысле — как выражение полноты энергии жизни, окружающей престол Всевышнего, и вместе как проявление энергии одухотворенного вещества. И так как весь этот звуковой мир является воплощением единого духовного смысла и замысла, он не сливается в хаотический, нестройный шум, как в здешнем мире, а образует созвучие голосов, которые сохраняют самостоятельность, остаются различными и раздельными, но объединяются общностью всеединого мотива вечной жизни и образуют хоровое, симфоническое целое.
Тут возникает естественное сомнение. Дозволительно ли мыслить грядущий мир в музыкальных образах? Не значат ли это привносить временное в вечное? Ведь симфония есть чередование звуков во времени. О какой же симфонии может быть речь там, где времени уже не будет; как примирить возможность симфонии с мыслью о вечном покое!
На самом деле привносит временное в вечное не тот, кто верит в вечную божественную симфонию, а тот, кто делает подобные возражения. В действительности неспособность слышать симфонию иначе, как переходя во времени от звука к звуку, есть не более, как психологическая особенность нашего человеческого слуха, а не свойство симфонии и не свойство музыки, как таковой. Мы уже видели, по поводу Девятой симфонии Бетховена, что мыслимо иное, сверхвременное восприятие музыкального целого, — такое сознание, которое охватывает ее всю зараз, в единый миг без всякого перехода[37]. Такое восприятие не только возможно, — оно есть: мы сами некоторым образом им обладаем. Мы не могли бы связать воспринимаемых нами во времени звуков в симфонию, если бы мысль наша не обладала иным, сверхвременным восприятием той же симфонии.