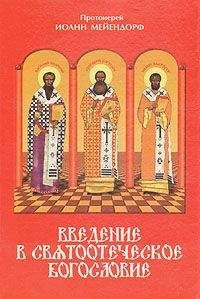В. Вейдле - Зимнее солнце
В Вене, на четвертый или пятый день, предосаднс уложила меня в постель очередная назойливая ангина. Я ведь даже и последние два реформатских выпускных экзамена в постели одавал из‑за нее. Но тут, вмеото недели, прошла она в три дня.
Многоопытный седенький лаоковый врач прогнал ее лимонным мороженым, не прибегая ин к смазываиьям, ни к полосканьям. Мороженое, доставлявшееся из соседней кондитерской шесть раз в день, было превосходное, а в промежутках я тоже не скучал: каталоги просматривал, золотое тепло Тициана вспоминал и матово–прохладные созвучия Андреа дель Сарто, да и не итальянское кое‑что, сыновей Рубеноа, например, во дворце Лихтенштейна. Накануне ангины там побывал, а вечером почти на премьере (третьем представлении) Rosenkavalier под управлением автора (помогло тут Рихарду Штраусу искусно отилизованное либретто Гофмансталя, исключавшее все надутые и громоздкие громогласности). Так что, пуоть и мельком, но габсбургскую столицу повидал, и когда поезд нао уносил далеко, далеко на юг, жалел, что не ближе ее узнал, хоть и думал вновь ее повидать не через сорок с лишним лет, когда мне было суждено — или уже не ее, не совсем ее? — нет ее, ее, ооиротевшую, но милую, дружелюбную, памятливую, вновь увидеть.
На юг, далеко на юг, — потому что из Вены мы прямо отправились в Неаполь. К вечеру проскользнули мимо лагуны (ничего, вернемся, когда станет потеплей, в Венецию), и мчались потом всю ночь, миновали Падую, Феррару, Болонью, Флоренцию, Рим, даже в Неаполе утром не задержались, о пароходной палубы любовались им, завтракали уже на Капри, отдохнули немножко в гостинице, а потом гуляли, вышли к мерю. Мама белый зонтик раскрыла, на скамью присела, покуда мы о Шурой, плоских камушков набрав, швыряли их рикошетом вдаль, заставляя сверкать синеву; и пахло йодсм, и бездонна была сииева вверху и внизу, и неподалеку, на тонких деревцах, вызревали большие, шершавые, толстокожие лимоны. Нашвырявшись до одури, мы сорвали, разрезали один; ново было для нас свежее его благоуханье. Потом в городок вернулись. У крыльца гостиницы крестьянин какисы продавал, принесенные им в большой корзине. Незнакомы были нам зтн обетованной земли плоды. Шура их полдюжины съел, до того пришлись они ему по вкусу. Съел и объелся. Пришлось «тете Оле» компрессом и оренбургским платком его обвязывать, горячим декаротвенным напитком поить; на утро стало ему лучше но велела она ему ничего не еоть и полежать, и мы о ней беа него прогулялись в Анакапри. А на следующий день уже вое втроем докарабкались до виллы Тиверия, и подползли мы о Шурой на животах к самому краю отвесных высоких скал и глядели долго вниз, где жидкий, пену над ообой выбрасывающий изумруд сражался не на жизнь, а на смерть, с тяжелой густотой сапфира. Так встретила нао Италия.
Или, омеха ради, рассказать о том, как она встретила нас у самой границы своей, в Удинэ? Отобедать там надлежало. Деревянный поднос со снедью и вином вручили нам в вагонное окно. Я налил вина маме, начал наливать себе, но заметил торчавший в горле графинчика отебелек — хвать, и вытащил за хвост мертвого мышенка. Маме, уже хлебнувшей глоток, чуть не сделалось дурно. Шура выскочил на перрон, искать буфетчика. Тот взял графин и, театрально размахнувшись, швырнул его об отену, так что он разбился на мелкие куски, а затем преподнес с низким поклоном Шуре большую соломой обернутую флягу белого Кьянти. Отпили мы из нее самую малость; мама, отведав мышиной настойки (ие причинившей ей, впрочем, ни малейшего вреда) не могла ни пить, ни есть; а ночью фляга, неосторожно подвешенная на своей соломенной петле, упала и разбилась, после чего наперекор всем стараньям, винный дух не покинул нашего купе дс самого Неаполя.
Пуотяки, пустячки. Вроде того, как в Риме, ровно на один день, так псчему‑то заболела у меня нога, что я утратил способность передвигаться, и мама с Шурой без меня присутствовали на папокой аудиенции. Смешные маленькие злоключения. Зачем вспоминать о них? Затем, что Италией мне они милы. Всерьез поведу о ней речь, если будет мне дане продолжить мои воспоминанья. Зто новый их раздел. Здесь, на обетованной мне земле, отрочество мое в юность перешло. Что ж влюбилоя я там впервые по–наотоящему, что ли? Вот, вот, но соперниц у нее не было: в одну Италию. Сто дней этих прожил без вожделенья, как и беа телячьего влюбленья; ни до того, ни до другого, на удивление потомотву, я еще тогда и не дорос. Любовью любил. Первая она была и основная, воспитательница всех любвей, узнанных мною позже, и которых без нее не узнал бы я быть может никогда, — к странам, провинциям, городам, к очеловеченной природе, к воплощенной в очеловеченьи этом истории. Эрос такого рода зажирел и выветривается теперь, но многим был свсйствеи в прошлом веке и в начале нашего века. Ему научила меня Италия. Если б я ее на пороге юности не вотретил, не стал бы я тем, кем я стал. — Кем я был. — Не написал бы, пожалуй, и этих моих детских и отроческих воспоминаний.