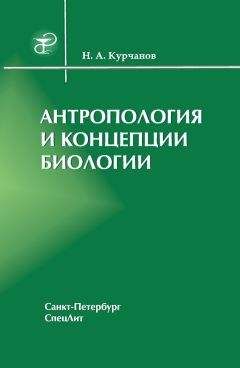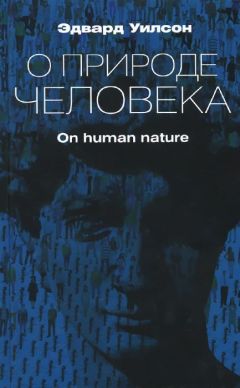Немесий Эмесский - О природе человека
Евреи говорят[44], что человек не был создан изначала ни совершенно смертным, ни (вполне) бессмертным, но был поставлен как бы на рубеже той и другой[45] природы, с тем, чтобы, если предастся телесным страстям, подпал бы и телесным изменениям, а если предпочтет блага души, удостоился бы бессмертия. В самом деле, если бы изначала Бог сотворил человека смертным, то не осудил бы его на смерть после грехопадения, потому что нельзя наказывать смертностью смертного; если бы, напротив, Он сотворил его бессмертным, то человек не нуждался бы в питании, потому что все бессмертное не нуждается в телесной пище, — притом, Бог не мог так скоро раскаяться и сотворенного бессмертным тотчас же сделать смертным, — так как и по отношению к согрешившим ангелам Он не сделал этого, но по (согласно) своей изначальной природе они оставались бессмертными, а за грехи получили другое наказание, но не смерть. Потому, лучше или таким образом понимать предложенный вопрос[46], или же следует предположить, что человек был сотворен смертным, но — постепенно совершенствуясь — мог достигнуть бессмертия, т. е., был создан бессмертным in potentia (δυνάμει αθάνατος·)· Так как человеку не следовало[47] прежде известной степени совершенствования знать свою природу, то Бог запретил ему вкушать от древа познания: ведь были, да и теперь еще есть, в растениях величайшие силы, — тогда же как при начале существования мира, будучи совершенно неповрежденными, они (т. е. растения) имели самую сильную энергию[48]. И вот был один плод, вкушение которого сообщало знание собственной (своей) природы. Бог не хотел, чтобы человек, прежде известной степени совершенствования, познал собственную природу и таким образом, узнав, что ему многого недостает, стал бы заботиться о телесных нуждах, оставив заботу о душе. По этой–то причине Бог и запретил ему вкушать от плода познания. Ослушавшись же и познав самого себя, человек потерял совершенство, почувствовал телесные потребности и тотчас стал искать себе покрывала, потому что — говорит Моисей — узнал, что он наг[49]; прежде же он пребывал в некотором одушевлении (έκστάσει)[50] и в собственном неведении. Лишившись таким образом совершенства, человек потерял также и бессмертие, которое впоследствии однако восстанавливается благодатью (милостью) создавшего его. После падения человеку было позволено питаться и мясом, тогда как прежде Бог велел ему довольствоваться одними произведениями земли, потому что они были в раю; с потерей же совершенства человеку — по снисхождению (τή συγκαταβάσει) — было предоставлено (право) питаться и всем остальным[51].
Так как человек имеет тело, а всякое тело составлено из четырех стихий[52], то он необходимо обладает по телу теми же свойствами, что и стихии, т. е., делимостью, изменчивостью и текучестью[53]. Изменчивость усматривается в качестве[54], текучесть же — в истощении (опоражнивании — κένωσιν). Ведь всякое живое существо (τό ζψον) всегда истощается через видимые и скрытые скважины (греч. — поры), о которых будет речь ниже. В силу этого необходимо — или внести взамен равное истощенному, или уничтожить живое существо недостатком восполняющих элементов[55]. Поскольку же истощается и сухое (твердое), и влажное, и дыхание[56], то всякое живое существо необходимо нуждается и в сухой (твердой), и во влажной пище и в дыхании[57]. А пища и питье наши состоят из тех стихий (элементов), из которых и мы составлены. Ведь все (живое) питается сродным и подобным (лат. naturae suae)[58] , а противоположным излечивается. Из стихий же одни мы употребляем в пищу или непосредственно и сразу, или посредством чего–либо иного, а другие — только через посредство чего–нибудь другого[59], — как, например, воду — иногда саму по себе, иногда — вместе с употреблением вина[60], елея (оливкового масла) и всех так называемых сочных плодов[61]. Ведь вино есть не что иное, как вода, приготовленная известным способом из виноградной лозы. Подобным образом и огнем мы питаемся, иногда непосредственно им согреваемые, иногда же посредством того, что едим и пьем: ведь во всем рассеяна большая или меньшая доля огня. То же самое нужно сказать и относительно воздуха: мы непосредственно им питаемся, — вдыхая и имея его вокруг себя и — захватывая во время еды и питья, а опосредованно[62] — через все остальное, что употребляем в пищу. Землей непосредственно мы никогда не питаемся, но — всегда через некоторое посредство: так, земля производит хлеб, а хлеб составляет нашу пищу. Хохлатые жаворонки[63], голуби, часто даже куропатки, питаются землей (т. е. непосредственно); человек же — через посредство семян, древесных плодов и мяса.
Так как человек превосходит всех животных тварей не только благоприличием (внешнего вида), но и более тонким осязательным чувством, то он не облечен ни толстой кожей, подобно быкам и прочим толстокожим, ни густыми и длинными[64] волосами, подобно козам, овцам и зайцам, ни чешуей, подобно змеям и рыбам, ни костистым щитом (όστρακα), подобно черепахам и раковинам (устрицам — όστρέοις ), ни мягкой костистой полостью (άπαλόστρακα), подобно морским ракам[65], ни крыльями, подобно птицам. В силу этого мы нуждаемся в одежде, заменяющей нам то, чем природа наделила других. По этим причинам мы нуждаемся в пище[66] и одежде. В жилище мы нуждаемся потому же, почему и в пище, и в одежде, а еще более — для предохранения от нападения зверей. В случаях же дурного распределения органических качеств[67] и нарушения обычного (нормального) состояния (συνεχείας)[68] тела — мы нуждаемся во врачах и лечении. Когда в качестве (органических соков) происходит изменение, то необходимо — через противоположное качество — привести состояние тела в соразмерность (Ες τό σύμμετρον)[69]. Ведь не для охлаждения предлагается врачам разгоряченное тело, как думают некоторые, но для обращения (изменения) в лучшее состояние[70], потому что, если бы охлаждали, то состояние тела обращалось бы в противоположную болезнь. Итак, человек нуждается в пище и питье, в следствие истощения и испарений (δια τάς διαφορηεις )[71]; в одежде (он нуждается) по причине отсутствия прочного природного облачения; в жилище — по причине дурного климата[72] и для защиты от зверей; в лечении — по причине изменения (органических) качеств и чувства, врожденного телу[73]. В самом деле, если бы чувство не было присуще нам, то мы и не страдали бы, а не страдая — не чувствовали бы нужды в лечении и (таким образом) погибали бы, в неведении зла, не излечивая болезни. Благодаря же наукам и искусствам и пользе, от них происходящей, мы нуждается Друг в друге, а вследствие этого, собираясь во множестве в одном месте, во взаимных сношениях (договорах — έν τοίς συναλλάγμασιν) сообщаемся относительно различных потребностей жизни, — каковое собрание и сожительство называем городом[74], — чтобы вблизи и непосредственно пользоваться взаимными услугами. Человек, ведь, по природе — животное стадное и общественное[75]. Никто один не достаточен для себя во всем. Итак, очевидно, что города (государства) образовались благодаря сношениям (commercia) и наукам.
Человек обладает[76] следующими двумя преимуществами: он один только через раскаяние получает прощение (no–лат.: грехов), и его лишь одного тело, будучи смертным (no–лат.: и тленным), делается бессмертным (no–лат.: и вечным): из этих преимуществ — относящееся к телу достигается через душу, а относящееся к душе — через тело. Ведь один только человек — из всех одаренных разумом существ — имеет то преимущество, что удостаивается прощения через покаяние: ни демоны, ни ангелы не могут получить прощения через раскаяние. В этом более всего сказывается и обнаруживается милосердие и правосудие Божие[77]. Ангелы, не имея никаких неотразимых побуждений, вовлекающих в грех, но по природе будучи свободными от телесных страстей, потребностей и удовольствий, по всей справедливости не могут получить никакого прощения через раскаяние[78]; человек же есть не только разумное, но и животное существо, — причем, животные потребности и страсти часто порабощают (увлекают) разум. Потому, когда человек, отрезвившись (придя в себя), избегает этого и достигает добродетелей, то получает заслуженную милость, т. е., прощение. И как смех является свойством человеческой природы, так как одному ему это только присуще — и всякому, и всегда , — так в том, что происходит по благодати (т. е. Божией)[79], свойственно человеку, преимущественно перед прочими разумными тварями, освобождаться от вины за прегрешения через раскаяние[80]. Ведь одному только человеку — и всякому, и всегда — дается это на время земной жизни: но после смерти уже нет. Отсюда, некоторые полагают, что и ангелы после падения уже не могут (более) получить прощение посредством раскаяния: ибо падение (έκπτωσις)[81] есть их смерть[82]; прежде же падения, по подобию настоящей жизни людей, и им могло бы быть дано прощение (лат. — от Бога); но теперь, не раскаявшись[83], они получают вечное, не смягченное милостью и вполне соответственное возмездие наказания[84]. Из этого ясно, что отвергающие покаяние уничтожают преимущественный дар, принадлежащий человеку. Отличительное свойство и преимущество человека еще в том, что тело только его одного из всех животных после смерти восстает и переходит в бессмертие. Получает же человек это (бессмертие по телу) вследствие бессмертия души, как то (т. е. — прощение грехов)[85] вследствие немощи и разнообразия страстей тела. Свойственно ему также знание наук и искусств, а равно и деятельность, соответствующая этим искусствам. Поэтому человека и определяют как животное разумное, смертное, обладающее способностью мышления и познания[86]: животное — потому что человек есть существо одушевленное, чувствующее, а это — определение животного; разумное — чтобы отделить (отличить) его от неразумных тварей; смертное — чтобы отличить от существ разумных и бессмертных; наконец — обладающее способностью мышления (рассудка — νοΰ) и познания, — потому что через учение мы становимся причастными наукам и искусствам[87], имея (от природы) лишь силу (потенцию — δύναμιν), способную воспринимать (δεκτικήν) и мысли, и искусства, а проявления (обнаружения — ένέργειαν) этой силы достигая (приобретая) посредством научения. Говорят, что эта последняя фраза является излишним добавлением к определению, что определение было бы правильно и без нее, но поскольку некоторые причисляют сюда и нимф, и какие–то другие виды демонов, живущие долгое время, однако — не бессмертные, то, чтобы и от них отличить человека, прибавлено к определению: (человек — животное) способное к мышлению и познанию. Ведь они (т. е. выше упомянутые нимфы, демоны и прочие) ничему не научаются, но что знают — знают от природы.