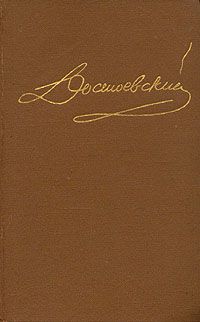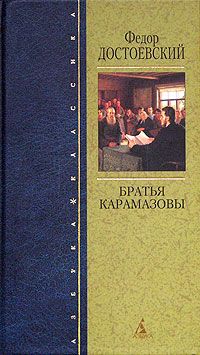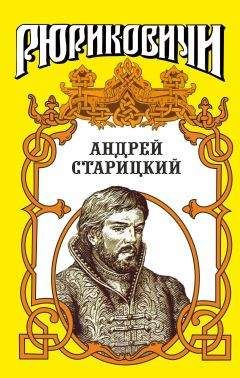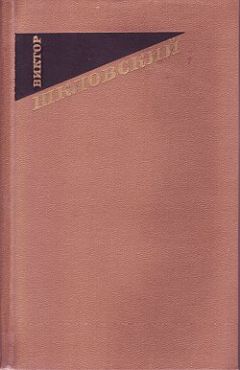Виктор Ляху - Люциферов бунт Ивана Карамазова
Вызывает, например, несогласие категорическое утверждение, что «античная трагедия является прамоделью трагического пути Христа»[24]. Законное подозрение о возможности типологических соотнесений перерастает у исследователя, быть может, и без умысла, в невольное внушение читателю мысли о том, что Христос в известном смысле только повторил, пусть в новых обстоятельствах, путь, когда-то уже пройденный античными героями. В логике же новейших исследований в области новозаветного богословия[25] и, разумеется, евангельских повествований Христос не только совершенно самостоятельно прошел свой особый путь, без оглядки на какие бы то ни было прецеденты, Он прожил судьбу настолько особую – не в количестве подробностей конкретики ее, но в принципиально новом качестве – что никакие, в своих рамках, может быть, и законные, известные аналогии с сюжетами античных трагедий не позволяют даже и пытаться соизмерять доктринально разновекторные мотивации усилий «героев» в сюжетах, рожденных и состоявшихся в принципиально противостоявших друг другу эпохах. Как дохристианские, более того, во многом противохристианские сюжеты античных трагедий никак не могли быть именно генеалогическим истоком Евангелий[26]. Другое дело, что опыт античной культуры не был, конечно, забыт и отброшен совершенно даже в апостольские времена, не говоря уже о раннехристианских. Но соприкосновение и взаимодействие здесь могли носить характер только частный, обнаруживать себя в каких-то технологических наследованиях на уровне конкретных навыков и умений в специальных областях ремесла и разнообразной прикладной практики. На первом же плане развертывалась – в логике первоначально максималистских поисков самоидентификации христианства – жесточайшая концептуальная конфронтация, в контексте которой какие бы то ни было компромиссы, а уж тем более, хотя бы и условные, солидаризации, преемство были практически невозможны.
Так же, как и в случае с работами Ф. Тарасова, мы не можем при всех случившихся оговорках не отдать должного резонным соображениям В. В. Дудкина о трагедийности Евангелия от Иоанна. Эта мысль для нас органично перекликается со взглядом Вяч. Иванова на романы Достоевского как романы-трагедии и с новой стороны укрепляет нас в уверенности, что не только возможно, но прямо-таки необходимо читать романы Достоевского и через Евангелие, в контексте его.
Практически в одно с В. В. Дудкиным время на тему «Достоевский и Евангелие» вышел со своей «стороны» К. А. Степанян. Принципиальной особенностью его подхода к названной проблематике является то, что он предельно конкретен в том специальном интересе, который явственно обозначил в самом названии своей статьи «Евангелие от Иоанна и роман „Идиот“».
Заявив свою вполне определенную тему, автор счел, однако, целесообразным предварить специальное исследование сжатой по необходимости, но достаточно емкой характеристикой «бытования тематики Евангелия от Иоанна в творчестве Достоевского» в целом. Обозрев, по преимуществу в «хронологическом порядке», случаи присутствия основных тем и мотивов Четвертого Евангелия в ряде ключевых произведений Достоевского, оговорив при этом их принципиальную значимость и существенную роль в разных построениях писателя, К. Степанян обращается затем непосредственно к роману «Идиот», в котором, согласно исследователю, «связь с Евангелием от Иоанна особенно важна и существенна». Опираясь на фактологию подготовительных материалов к «Идиоту», ученый последовательно и тщательно (от страницы к странице, от главы к главе) выявляет и дешифрует евангельский интертекст и его функцию на протяжении всего повествования, начиная с «первого упоминания Евангелия от Иоанна[27]» в нем. В ходе развернутых наблюдений исследователь пришел к следующему: он, во-первых, установил преимущественное влияние на текст романа «Идиот» именно Четвертого Евангелия, а не трех других, синоптических; во-вторых, охарактеризовал варианты вербальной представленности евангельского текста в романе; в-третьих, в достаточной, на наш взгляд, мере обосновал мысль, что вера Достоевского не была статична (она, как полагает К. Степанян, «постоянно развивалась и углублялась… от романа к роману»); наконец, в-четвертых, исследователь убедительно продемонстрировал, что «одной из главных тем (романа „Идиот“. – В. Л.) становится основополагающее значение веры в то, что „Слово плоть бысть“»[28].
Последний вывод является едва ли не ключевым и для Т. А. Касаткиной, которая справедливо считает, что всякая попытка исследователей «определить стиль Достоевского», постичь «внутреннюю онтологичность слова» в отрыве от фундаментального «события, изменившего лик мира», а именно, «что Слово в самом деле плоть бысть»[29], не увенчается успехом. Монография Т. А. Касаткиной «О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве
Ф. М. Достоевского как основа „реализма в высшем смысле“» занимает, на наш взгляд, особое место в русле современных исследований феномена слова в целом и интер-текста, в частности. В разделе «Цитата как слово и слово как цитата…» исследовательница обращает внимание на то, что «цитата в художественном мире Достоевского… раскрывает способ творящего бытия слова в пространстве художественного текста». Но этим тезисом как будто еще ничего не сказано. Поэтому тут же следует пояснение: «Отношение Ф. М. Достоевского к цитате, тесно связанное его отношением к слову вообще, не совсем обычно даже для писателей высочайшего уровня художественности. Как за словом всегда видится ему мир и его Творец… так за цитатой для него всегда встает художественный мир и его творец, цитата всегда оборачивается присутствием в тексте Достоевского всей полноты творческого универсума и даже – прозреванием (предчувствием и пониманием) творящей личности цитируемого автора»[30]. В этой логике очевидно, что за цитатой библейской встает ценностный мир сакрального текста, который «определяет существо его реализма, – в глубине житейской сцены» художник «прозревает ее евангельский первообраз». Как никто другой, подчеркивает Т. А. Касаткина, «Достоевский видел „глубину“ жизни, ее евангельскую „подкладку“, вечное содержание мимолетных форм, и именно глубина определяла истинное значение каждого эпизода, вне этой своей укорененности в глубине допускающего самые противоречивые трактовки»[31].
Представленный обзор главных трудов российских ученых по нашей теме должен быть дополнен, вне всякого сомнения, обращением к опыту зарубежных коллег.
Среди работ последних особый интерес у нас вызывает фундаментальный труд Нины Перлиной «Многообразие поэтики высказывания. Цитирование в „Братьях Карамазовых“», появившийся во второй половине 80-х годов ХХ века[32]. В своем общении с итоговым романом Достоевского американская исследовательница руководствуется широко известными теоретическими положениями М. Бахтина и Э. Ауэрбаха. В известном смысле работа Н. Перлиной вообще была бы немыслима без учета идей и концепций, выдвинутых М. Бахтиным. Не случайно в начале своего исследования автор заявляет о «суммировании идей Бахтина и объяснении использования его терминологии». Но, относясь с должным пиететом к российскому ученому, американская исследовательница считает вместе с тем вполне возможным и даже необходимым сколько-то и переосмыслить некоторые принципиальные взгляды ученого, полагая, что «труды М. Бахтина дают новые перспективы» для развития ее собственных идей: «Данное исследование развивает несколько аспектов теории, сформулированной Михаилом Бахтиным в его трудах по литературе и языку»[33].
Согласно Н. Перлиной, Достоевский живет в сложный, переломный период российской истории, когда под вопросом оказались дотоле бесспорные, абсолютные христианские ценности и были утрачены прежде ясные, без условные идеалы. «Страдая от отсутствия духовности в общественной жизни и литературе своего времени», Достоевский стремится создать произведение, которым хочет ответить на многие вызовы эпохи. Для этого, полагает Н. Перлина, расширяя традиционные рамки романа, художник включает в его повествовательную ткань «элементы житийной и библейской литературы»[34]. Достоевскому удается, в результате, ввести в роман слово неколебимого, безусловного авторитета и под эгидой такого именно слова выстроить архитектонику «Карамазовых» принципиально, фундаментально. «Цитаты из религиозной литературы, – поясняет свою мысль исследователь, – вводят авторитетное слово в роман. Внутри общей иерархической системы „Братьев Карамазовых“ они формируют свою собственную иерархию, иерархию функций. Это означает, что цитаты, извлеченные из разных жанров религиозной литературы, вводят в роман определенные идеологические, моральные и духовные ценности и эстетические ассоциации»[35]. Нам кажется, что следовало бы добавить: эти ассоциации вводятся в качестве конституирующих, системообразующих.