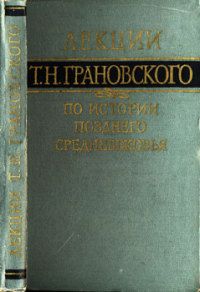А. Спасский - Лекции по истории западно–европейского Средневековья
Вот в основных чертах строй центральной и областной администрации в диоклетиано–константиновской Империи. Если мы теперь сравним эту реформированную Империю с Империей I и II вв., а тем более с Римской республикой, то прежде всего наше внимание должно обратить на себя упомянутое уже мной разделение между военной и гражданской властями. Римские республиканские должности были тесным образом связаны с командованием, с армией; если спросить, кто был консул, проконсул или претор, то придется сказать, что во всяком случае они были военными должностями, с которыми соединялась известная доля власти в мирных делах. В IV же веке это смешение гражданских и военных обязанностей в одном лице прекращается, и функции власти разделились: с одной стороны стали гражданские чиновники, с Другой — военачальники, военные comites и duces, получавшие гражданское управление только в редких случаях, например, в провинциях, находящихся в осадном положении. Таким образом, получилась специализация обязанностей, в результате чего вся администрация стала более совершенной в техническом отношении; но здесь была и одна очень невыгодная сторона. Если прежний военный командир, которому принадлежало гражданское ведение, не всегда хорошо знал судебные порядки и законы, зато его нельзя было обвинить в излишней формальности, в подчинении дела бумажному производству; теперь же, в истории IV в., канцелярское бумажное делопроизводство развивается с необыкновенной быстротой, а вместе растет и число чиновников, организующихся в т. н. Scholae. Основное начало, которого держалась римская администрация, состояло в том, чтобы не позволять чиновникам исключительно сосредоточиваться на канцелярской деятельности, а передвигать их с одной должности на другую; и это выражалось тем, что должностное лицо служило в канцелярии год, а затем отправлялось в командировку; через год эта командировка кончалась и чиновник возвращался обратно; таким образом, чередование между канцелярской и практически–административной деятельностью — вот что вводилось в противовес слишком сильно развивавшемуся бумаговедению, Но и этот порядок имел очень существенный недостаток, потому что отрывал людей от постоянного круга их обязанностей и следствием его было равнодушие к тесной связи между человеком, занимавшим должность, и ее задачами, равнодушие к тому, на одной ли должности находиться или на другой — черта, глубоко сказавшаяся в чиновничьем быту.
Наши представления об административном строе Римской империи IV в. были бы, однако, неполны, если бы мы не ознакомились с той строгой субординацией, какая была последовательно проведена в чиновничьем мире этой Империи и какая обращала этот мир в стройную иерархическую лестницу. Империя Диоклетиана и Константина представляла собой как бы пирамиду власти и должностей; во главе этой пирамиды стоял император, его окружали придворные чины, затем следовали префекты, начальники диоцезов, правители провинций и т. д.; каждой должности, каждому чину здесь отведено было определенное место, находившееся в гармонии с целым и державшее каждого чиновника в пределах указанной ему власти. Эта градация должностей скреплялась системой чинов, впервые введенных в Империи Диоклетиана и Константина и усвоенной отсюда новейшими государствами. Все служившие в государстве лица разделены были Константином на четыре разряда. К первому принадлежали лица, приближенные к трону, члены и свойственники императорской фамилии; они назывались nobilissimi, т. е. знатнейшими. Следующий за ним класс illustres — «знаменитых» — обнимал собой высших чиновников Империи, т. е. префектов, военачальников и придворные чины. Это были важные особы, прадеды теперешних действительных тайных советников, к которым лица низших разрядов относились с подобающей им покорностью и уважением. Два последних разряда носили имя spectabiles и clarissimi — «достопочтенные» и просто «почтенные» — титулы, которые давались правителям провинций, заканчивавшим собой иерархическую лестницу. Кроме того, Константином Великим были введены еще два разряда, стоявшие вне первых четырех: periectissimi, т. е. особы «превосходительные» — чин, принадлежавший по большей части чиновникам министерства финансов; и egregii, т. е. «высокородные», каковым титулом украшало себя множество лиц, имевших основание считать себя не принадлежащими к толпе, как‑то: дворцовые секретари, все служащие по управлению провинциями, адвокаты, священники и пр. Каждому из указанных разрядов усвоена была определенная формула, с которой низшие чины должны были обращаться к лицам, стоявшим выше их по служебной лестнице. Этих формул с течением времени развилось чрезвычайное множество, и так как они представляли собой искусственное изобретение, то их почти невозможно передать на русский язык. Один историк остроумно замечает, что сам Цицерон едва ли был бы в состоянии понять их, хотя они и выражались латинскими словами. Впрочем, более употребительные из этих формул недалеко отступали от современных; так, в Империи IVb. мы встречаем такие эпитеты, как: «ваше чистосердечие», «ваше степенство», «ваше высокое и удивительное величие», «ваше знаменитое и великолепное высочество» и т. п. В дополнение этой картины государственного строя Империи следует еще заметить, что каждому должностному лицу усвоена была определенная эмблема, указывающая на его специальность, как, например, изображение колесницы, книги указов, знамен войска и т. п., из которых впоследствии и развились наши формы. Все это вместе — чины, титулы и эмблемы — придавало чиновничеству тесную сплоченность и самое государство превращало из военной Империи, какой оно было в I и во II вв., в Империю бюрократическую. Благодаря строгой субординации чиновничество в ней составило особое сословие, которое мало–помалу начало смотреть на себя с чувством обособленности интересов, считать себя корпорацией, до такой степени довлеющей самой себе, что жизненные отношения к остальным частям населения стали подрываться: возник своеобразный антагонизм, борьба между чиновниками и населением: чиновники стараются изловить население, а оно — ускользнуть от них. Все это подтверждается целым рядом указов, и в этом отношении особенно важным является кодекс Феодосия, дающий массу материала; огромное количество рескриптов, предписаний и законов, регулировавших административную машину, показывает, что при всем своем техническом совершенстве она встала в слишком уж формальное, а потому и враждебное отношение к обществу как целому; есть даже один эдикт начала IV в., в котором с какой‑то мечтательностью идет речь об innocens rusticitas (о неповинном хозяйстве), поедаемом чиновниками. Отсюда видно, что императоры хорошо замечали недостатки существующего порядка, но не были в состоянии справиться с ними своими силами.
Христианский писатель IV в. Лактанций, характеризуя порядки современной ему Римской империи, говорит, что число должностных лиц в ней увеличилось до такой степени, что стало больше людей получающих, чем дающих. Это очень меткое замечание, и указываемый в нем прискорбный факт объясняется не только тем, что римская бюрократия, как и всякая историческая сила, стремится к саморазвитию и действительно развивается до крайних пределов возможного; он объясняется еще тем трудным положением, в каком очутился римский мир под давлением внешних обстоятельств; борьба с варварскими племенами на важнейших границах и необходимость отстаивать самую жизнь государства оказывали тягостное влияние на внутренний строй жизни; поневоле приходилось вооружаться с ног до головы, поневоле приходилось свободу, благосостояние и возможность индивидуального счастья приносить в жертву порядку и дисциплине. Собственно говоря, развитие чиновничества с его казенным формализмом и прочими недостатками было злом очень небольшим; в общем новый строй Империи, выработавшийся в IV и Vbb., принес ей пользу; он связывал в одно целое начавшие расползаться в разные стороны части Империи и придал ей стройность. Если иметь в виду только внешнюю сторону Римской империи в IV в., одну, так сказать, ее поверхность, то можно подумать, что еще никогда Империя не достигала такой выработанности и законченности в своих порядках, как в это время; здесь все, по–видимому, размещено по определенным местам, каждое явление подведено под известный закон и параграфы; каждое событие заранее урегулировано нарочитыми постановлениями. Но вот проходит только полстолетия после эпохи Константина Великого — и оказывается, что эта обширная и могущественная Империя не была в состоянии дать отпор кучкам варваров, ворвавшихся в ее пределы и избороздивших ее по всем направлениям. Чем же должно объяснять это странное явление? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно от административного строя Империи обратиться к самому обществу, к населению, управляемому этим строем, и рассмотреть его состояние, т. е. от поверхности Империи перейти к тем внутренним пружинам, которые заправляли его жизнью. — Всякое государство существует только потому, что общество отделяет в его пользу известную часть своего достатка и даже своего существования; подати и войско — вот две главные формы повинностей, в которых общество приходит на пользу государству: в войске общество отдает государству часть своих членов, так сказать, часть своей жизни, в податях — часть своих доходов. Было ли общество IV в. настолько состоятельно в своих силах, чтобы оно могло оказать достаточную поддержку государству? Ответив на это, мы разгадаем те причины, которые привели великую Империю к падению.