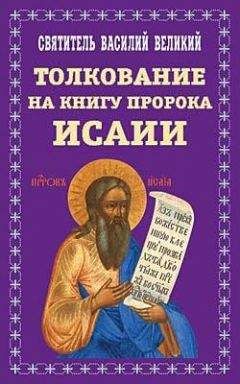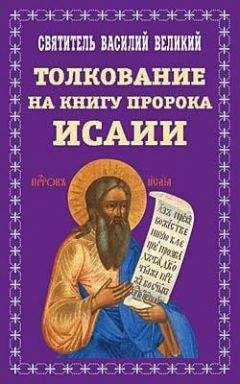Василий Великий - Толкование на Книгу пророка Исаии
Посему Пророк говорит: и яко ига юнична ременем. Подпруги у самых крепких волов, с большим усилием влекущих тяжести, нелегко перерываются. Но пророческое слово усилило понятие о крепости, сказав, что ремень взят от ига юницы, то есть самого крепкого животного, не приводимого в изнеможение ни трудами, ни временем. Посему горе тем, которые, чтобы согрешить, делают к сему продолжительные приготовления, и притом с усилием и крепостью.
Но и соделавшемуся узником греха возможно последовать за Христом, Который говорит сущим во узах: "изыдите", и сущим во тме: "открыйтеся" (Ис. 49, 9). Вышедшие же из-под стражи чрез покаяние узники и обратившие взор от тьмы к истинному свету последуют за Христом, исповедуя Его и оставаясь связаны по рукам путами, пока чрез доброе изменение не сделаются достойными, чтобы Сам Он разрешил их от уз, почитаемых дотоле неизбежными.
А сии привлачающии грехи и презирающие Божий суд часто словом своим требуют ускорения угроз, как бы нимало не уверяемые ими, и говорят: скоро да приближатся, яже сотворит, да видим, и да приидет совет Святаго Израилева. Но это — долгое уже, привлачающее грех издалека, ибо очевидно, что они говорят сие, не веруя в будущий век и презирая угрозы. Боящийся же судилища Христова и приводящий себе на память грехи юности не дерзнет презрительно требовать ускорения суда; а напротив того, просит себе более продолжительного срока, чтобы в течение большего времени иметь возможность очистить душу свою от греховной скверны. Примером неразумного поспешения в будущее служат Ахитофел и Иуда, которые, почитая более тягостным настоящее, а не грядущее, и укор от людей, а не наказание в геенне, предпочли естественной смерти смерть удавления (см.: 2 Цар. 17, 23; Мф. 27, 5). А если бы веровали они в грядущий век, то не удавились бы и, сколько ни горестна была бы их жизнь, остались бы привязанными к здешнему миру, признавая будущее более страшным, нежели настоящее. Таков был Иов, который говорил: Аще бы возможно было, сам бых себе убил, или молил бых иного, дабы ми то сотворил (Иов. 30, 24). Ибо в сих словах как показал он нестерпимость удара, так и сохранил опасение умыслить зло против себя самого. Ибо на тех, которые насильственно лишают себя жизни, лежит осуждение в самоубийстве. Когда и у Павла находим, что некоторые говорят: сотворим злая, да приидут благая (Рим. 3, 8), почитаем это намерение ужем, наводящим великий грех. Говорят же, что такая мысль составилась у иудеев от великого развращения, и они рассуждали: "Поскольку все ожидают, что за множество грехов последует гибель, то сотворим злая и исполним крайнюю меру нечестия, чтобы наступила перемена настоящего, и все пришло в лучшее состояние".
(20) Горе глаголющим лукавое доброе, и доброе лукавое, полагающим тму свет, и свет тму, полагающим горькое сладкое, и сладкое горькое.
Но совершенному, у которого чувствия обучена долгим учением (ср.: Евр. 5, 14), надобно быть в состоянии отличать свойство доброго от лукавого, и изведанному торжнику должно добрая держать, от всякаго же вида злаго огребатися (ср.: 1 Сол. 5, 21–22). А у кого повреждена рассуждающая сила души, тому свойственно давать превратные свидетельства о достоинстве каждой вещи. И кажется, в природе человеческой есть сильная какая-то наклонность в действительном состоянии вещей предполагать противное. И о если бы такая нестройность простиралась на одних тех, которые чужды Писаниям! Они говорят, что о каждом предмете возможны равносильные и противные между собой суждения, и всякую очевидность, сколько могут, приводят в сомнение, говоря, что серебро черно по причине принимаемой им ржавчины и солнце черно, потому что очерняет тела, с которыми долгое время бывает в сношении. Из подобных сему случаев выводят они учение о нерешительности заключений, именно же, что чувства ведут к ложным заключениям и представляют предметы не такими, каковы они в природе. Но глаза, обманутые живописью, на шее голубя представляют тебе то те, то другие цвета, поскольку от наклонений животного и от различных отношений к нему луча изменяется зрение. А поэтому, основываясь на том, что представляет глаз, они не могут ни согласиться, что теперь день, ни признаться, что теперь ночь. Вследствие же сего впадают в безбожие, не соглашаясь ни на то, что всем управляет Божий Промысл, ни на то, что все движется случайно. Увидишь, что многие из уверовавших в писания закона и Пророков, с упорством, по одной вероятности, оспаривают во всем очевидность, чтобы ослабить и поколебать истину догматов. Некоторые хотя исповедуют себя верующими во Христа Иисуса, однако же показывают на деле, что они не утверждени в томже разумении и в тойже мысли (1 Кор. 1, 10), но разделены на самые противоречащие толки. Другие то же делают частью по невежеству, а частью из любоначалия и тщеславия, желая показать многим, что они мудры и превосходят других познаниями. От сего-то все наполнено любопрителями и преподавателями противоречащих учений; каждый упорно стоит на своем мнении — с напряженным усилием опровергнуть и обличить мнение другого. О, если бы хвалящиеся, что соблюли апостольское учение и по преемству прияли от Апостолов евангельскую проповедь, согласием в учениях доказывали, что они части одной Христовой Церкви!
Такое смятение простирается не только на познание, но и на дела, так что суть путие мнящиися прави быти мужу, обаче последняя их зрят во дно адово (Притч. 16, 25) и есть праведный погибаяй во своей правде, и есть нечестивый пребываяй во своей злобе (Еккл. 7, 16). Ибо ежели есть что неудобопостижимое, то к сему роду принадлежит и истинная праведность. Почему и Соломон сопричисляет как равночестное к одному разряду: И уразумети притчи и темное слово, речения же премудрых и гадания; и уразумети правду истинную и суд исправляти (ср.: Притч. 1, 6, 3). Посему многие по опрометчивости произносят суждения разноречивые, потому что прежде, нежели составлено понятие на достаточном и прилежно исследованном основании, с безрассудной поспешностью дают свое согласие на всякое мнение. Обыкновенно же думают, что естественная сила диалектики всего более может доставить это, то есть научить, как подробно разбирать свойства предметов, распознать однородное и различить противоположное. Посему-то сознававший себя сведущим божественную диалектику сказал: да усладится Тебе беседа моя (ср.: Пс. 103, 34). Диалектика же любопрителей, которые берутся за предметы с охотой поспорить, не только неприятна, но еще огорчает.
Но из трех сочетаний: света и тьмы, доброго и лукавого, горького и сладкого — все ли они составляют одно в подлежащем или различны между собой по роду? Что до простого смысла, то ясно, что лукавым означается испорченность нравов, а прекрасное (kal" on), как определяют, есть благо, достойное похвалы. Опять, тма есть воздух, лишенный света, а свет — сущность, рассевающая тьму. И еще: сладкое есть мягкость влаги или сока, услаждающая чувство вкуса; а горькое есть то, что при вкушении жестко действует на вкус. Итак, по простому разумению, вещи сии весьма много различествуют между собой. И кто же до того безумен, чтобы среди глубокой ночи стал называть тьму светом и, когда у него глаза ничего не различают во тьме, представлять, что он озарен светом? Кто, чувствуя неприятность при вкушении горького, станет утверждать, что ощущает приятность сладости? Кому, имея глаза, трудно распознать чувственную красоту? Она, взаимной соразмерностью частей и наружной доброцветностью, сама собой и естественно привлекает к себе всякого встречающегося, между тем как безобразное само собой производит в зрителях отвращение.
Но кажется, что речь здесь идет не о познаваемом чувственно. А поскольку заповедь Господня светла, просвещающая очи (Пс. 18, 9) и слово Божие — светилник ногама праведника (ср.: Пс. 118, 105), то не живущий добродетельно, но погрязший в плотских страстях будет такой человек, который жизнь во грехе возлюбил, как некоторый свет, а жизни по заповеди Господней отвращается, как тьмы. И кто словес Божиих, которые сладки гортани праведного паче меда для духовного его вкуса (ср.: Пс. 118, 103), отвращается по трудности заповедываемого, охотнее же избирает легкость удовольствия, тот называет горькое сладким и сладкое горьким. Таким же образом надобно рассуждать и о прекрасном, что истинно прекрасное есть соразмерность в душе, доблестно настроенной. Ибо добродетель есть какая-то середина и соразмерность; а излишек и недостаток, в ту или другую сторону выступающий из пределов добродетели, есть уже неумеренность и безобразие. Так, мужество есть середина, излишек его — дерзость, а недостаток его — робость. Следовательно, красота души есть соразмерность в добродетели, а безобразие — нарушение меры вследствие порока. Посему пророческое слово называет жалкими тех, которые избирают порок, как нечто доброе, и избегают добродетели, как лукавства.