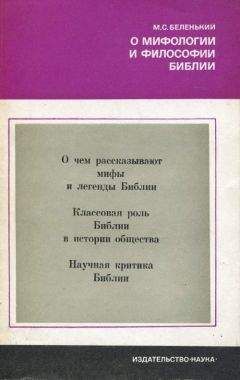Сергей Булгаков - Апокалипсис Иоанна
Итак, иной голос с неба содержит в себе предостережение и увещание, обращенное к верным и верующим, и звучащее, очевидно, в совести их как ее веление и самоопределение перед лицом исторической действительности как критерий и норма внутреннего и внешнего самоопределения. Этот голос обращается к народу Божию, который, очевидно, существует на земле (хотя и не говорится, в большом или малом количестве, да это и не имеет здесь решающего значения), с призывом и обращением, как бы и через кого бы они ни выражались: «выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергаться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее» (4-5), то же и в следующих стихах (6-8). Если и можно вообще спрашивать себя, кому принадлежит этот голос с неба, то, очевидно, «народ Мой» сказано, во всяком случае, не ангелом, но Богом и о Боге же как судящем, который есть Отец (это же относится и к словам ст. 8: «п. ч. силен Господь Бог, судящий ее»). Однако это могло быть сказано и Христом, поскольку Он творит суд на земле. Можно спрашивать себя еще далеко, кем сказаны и к кому относятся дальнейшие слова этого обращения «воздайте ей так, как она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее» (6 и далее ст. 7).
Если первое обращение относится к народу Божию, [72] то к кому же относится это второе: «воздайте»? К ангелам или человекам? Первое понимание не отвечает тексту, в котором совсем не говорится об ангелах, на то посылаемых, второе же еще более неуместно, поскольку человекам не дано быть исполнителями велений Божиих о воздании за грехи. Очевидно, здесь применимо лишь то толкование, которое мы применяли выше. Речь идет о связи, о ходе исторических событий, которые в себе содержат исполнение воли Божией и гнева Божия. При этом такое их значение может оставаться вне или выше их сознания, здесь действует та List der Vernunft, о которой уже говорилось выше. Вавилонской блуднице вменяется в вину, что она «славилась и роскошествовала» (7), и в ответ ей воздается столько же «мучений и горести». Наказание ее описывается в аллегорических и гиперболических образах: «в один день (конечно, этот срок не допускает буквального применения, но означает лишь внезапность и быстроту событий) прядут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем» (8). Все это означает совокупность различных исторических бедствий, которые одновременно даже и не совместимы, но в общем итоге ведут к истреблению, «сожжению огнем».
Вторая часть главы (8-20) посвящена характерным плачам [73] о падении «великого Вавилона, города крепкого» с повторяющимся рефреном «горе тебе» (10, 16, 19) в устах трех различных групп плачущих: царей земных, купцов и моряков. Конечно, нет никакой необходимости ограничивать пределы «Вавилона» только Римом, даже если это и было свойственно самому тайнозрителю. Но и он во всяком случае предполагает наличие и других царей земных, так что Вавилон имеет значение собирательное, есть понятие не столько географическое и политическое, сколько морально-мистическое.
Первый плач исходит от царей земных, «блудодействовавших и роскошествовавших с нею» (9). Второй плач, от купцов земных (11-17а), представляет собой, может быть, менее мистическую и более «культурно-историческую», а вместе и риторическую картину древнего торгового быта с довольно случайным и даже хаотическим, хотя и характерным перечнем ходовых товаров, род торгового каталога или прейскуранта (12-13). Конечно, он совершенно отличается от теперешней индустриальной торговли, поскольку имеет не производительный, но потребительный характер, относится, главным образом, к предметам роскоши, так что задача всего этого примерного перечня сводится к тому, чтобы показать богатство и роскошь Рима. Здесь останавливает внимание характерное к нему прибавление; после разных предметов роскоши прибавляются еще «и тела и души человеческие» (13): первое относится к разврату телесному (проституция, рабство, гладиаторство и другие бои), второе — к духовной продажности и вообще порочности.
Третий плач относится к представителям морской торговли (16в-19), которые лишились источников обогащения. И в противоположность этому всеобщему земному плачу, как бы в ответ на него, призываются к веселию «небо и святые апостолы и пророки» (20) о совершившемся суде Божием. Здесь мы имеем обычное для Откровения противоположение происходящего в небесах и на земле. Этот небесный суд выражается в особом символическом образе: сильный ангел повергает в море камень, подобный жернову, в знак поверженности Вавилона (21), «и уже не будет его». Это его уничтожение [74] подтверждается в ряде частных образов: не будет голосов играющих и поющих, никакого художника, ни художеств, ни шума от жерновов (промышленного труда), ни светильников, ни голоса жениха и невесты (XVIII, 22-23). Ибо «купцы твои были вельможи земли (господство буржуазии, капитализма) и волшебством твоим введены в заблуждение все народы» (21-23). «И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле» (21). Последние слова представляют собой необычную прибавку, поскольку они относятся не только к гонению на религию и ее носителей, но и ко всем вообще погибшим от буржуазно-политического террора. Этим придается мысли и несколько политический характер — возмездия вообще за насилие человека над человеком. Такое ее расширение здесь следует отметить, особенно в данном контексте, где имеются в виду не только религиозные, но и вообще исторические судьбы людей на путях их истории. Здесь свидетельствуется суд не только над лицами, но и над социальным и политическим строем, всяческим деспотизмом, как государственным, так и экономическим. Это является характерным для того, что мы называли выше революционным духом Откровения. Таковым характером отличается вообще вся эта глава.
Однако в связи с этим перед нами еще раз возникает все тот же вопрос: следует ли здесь видеть событие единократное, однажды происшедшее, индивидуально-историческое, или же, напротив, типологическое, повторяющееся — с разной силой и в разных образах — в разные эпохи. Ответить на этот вопрос в первом смысле, т. е. отнести его к судьбам одного только Рима и его истории, невозможно уже потому, что в ней мы не найдем какого-либо одного такого события, которому мы могли бы приписать характер такого свершения. Рим знал революцию, но не одну такую революцию, которая имела бы такое решающее и исчерпывающее значение. Можно сказать и то, что в них совершался исторический суд над ним, но каждая из них не была еще тем последним и общим судом, о котором здесь говорится в пророческом ясновидении, собирающем и обобщающем сродные черты разных событий в одном фокусе. Вместе с тем, теперь мы уже не можем ограничивать силу этого образа одним лишь древним миром, современным тайнозрителю, потому что он явно применим и к дальнейшим эпохам, и в особенности к нашей теперешней. Ибо те события и разрушения, которых ныне мы являемся свидетелями, не являются ли и они образами Страшного Суда Божия и над тоталитарной государственностью, над буржуазией и капитализмом? Было бы для нас некоторым добровольным самоослеплением и даже духовным самооскоплением, если бы мы допустили, что гневные образы Апокалипсиса относятся только к одному древнему Риму и не применимы и к нашей эпохе, которая едва ли и уж во всяком случае количественно являет гораздо более грандиозные образы социального и политического зла, нежели древний Рим. Поэтому следует видеть здесь пророчественное его обличение для всех времен истории, к которым только оно приложимо, — прошедшим, настоящим и, конечно, будущим, если только не верить детским обещаниям «государства будущего», которые раздаются в нашу эпоху настойчивее, чем когда-либо ранее.
Однако тут возникает и важное недоумение: не говорится ли уже здесь — уже не типологически, но исторически — об окончательном уничтожении Вавилона, подобно жернову, повергнутому в море: «с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его» (21). Что это значит и можно ли это понимать буквально? Очевидно, все-таки нельзя, поскольку Вавилон-Рим не был никогда до конца уничтожен, хотя и бывал много раз уничтожаем. Он возрастал и умалялся, переживал кризисы и революции, но ни одну из них нельзя назвать уничтожением, хотя бы подобным тому, чем было разрушение Иерусалима, предсказанное Спасителем и пророками. Очевидно, сказанное о Вавилоне надо принимать с учетом того словесного гиперболизма, которого и в других случаях не чуждо Откровение: здесь говорится по поводу силы и значения отдельных революций, потрясающих и до известной степени разрушающих сложившийся быт, но, главным образом, здесь имеется обличение внутренней несостоятельности, пустоты и ложности «Вавилона» в духовных его основаниях. Отсюда следует и дальнейшее заключение о том, что если «Вавилон» в смысле собирательном продолжает свое существование в истории, то повторяются и в его внешних судьбах потрясения и разрушения, выявляющие его духовную мертвость и несостоятельность, а чрез это совершается исторический суд над ним. В таком смысле мы имеем право и даже обязанность сказать, что и в наши дни, пред лицом всего происходящего, мы присутствуем при некотором новом «падении» Вавилона или вавилонов, гнева Божия и суда над ними. И в свете такого понимания Откровение перестает быть политическим и социальным памфлетом, принадлежащим определенной исторической эпохе и содержащим самую резкую критику ее жизни, но сохраняет силу и для нашей современности. Даже более того, оно является сверх- или всевременным пророческим озарением, относящимся к историческим путям человечества.