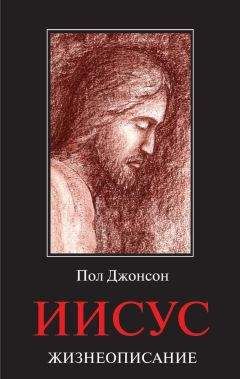Карен Свасьян - …Но еще ночь
8.
«Доктор был строг весьма. И — был добр весьма. Присаживая за урок, чуть ли не уничижаясь до равного со мной тона, он больно щелкал меня там именно, где самолюбие — распирало. Так — например: значительно поглядывая на меня и вращая кончиком носка (его жест), он сказал раз (в тот именно период): „Один художник думал, что он создал многое, имеющее значение, а он должен был создать нечто еще через 17 лет; а пока он так думал, он — много говорил; существо же одно в то именно время влезало в рот к нему; владело им“. Под „существом“, конечно, он разумел отсталое существо иного мира. В тоне, каким всё это говорилось, был красноречивый выпад… в тогдашнего меня; я в те годы 10 лет привык себя считать чуть ли не „ВОЖДЕМ СИМВОЛИЗМА“; и я же десять лет с широко раскрытым ртом говорил; и — нате: в рот — влезло… СУЩЕСТВО!»[132]Если под «тогдашним мной» иметь в виду Белого до перехода в антропософию, то, отсчитав вперед 17 лет, мы как раз получим время создания «Истории становления самосознающей души». Биография Белого (вообще, а особенно за названные 17 лет, с берлинской кульминацией 1921—23) — это поиск себя в уже отраженном в себе, как Я, Штейнере, по сути, поиск формы , в которой можно было бы проживать лучшую часть своей души не в опасной близости к психиатрии, а подобающим образом , что значит: не себя расширять до Штейнера, с риском лопнуть и очнуться уже в крыловской басне, а Штейнера в себе уменьшать до заметности, до того оптимума собственной гениальности, в которой мысли учителя могли бы явиться хоть и в своеобразном, но не искаженном виде. Но это и случится через 17 лет: в «Истории становления самосознания» — после всех взлетов и срывов биографии, которая едва ли не вся уместится в цветаевской диагностике «полного перелома хребта» . Или в собственной: «схождения с ума» . В «Записках чудака», автором которых вполне мог бы стать Николай Аполлонович Аблеухов, заверши он «Петербург» чтением не философа Сковороды, а тайноведа Штейнера, случай описан с точностью этапного эпикриза: «В оккультном развитии есть потрясающий миг, когда „я“ сознаванья свергается с трона под черепом, разрываяся на миллионы сознаний: и видит Оно: возвышается тело сплетенной громадой из тел; на вершине громады свершается в „Я“ пересеченье сознаний вселенной; невероятное переживанье себя мириадами „Я“ уподобляемо быстрому погасанью сознания: „Я“, „Я“ — раскричалось из пальца руки: „Я“, „Я“, „Я“ — раскричалось из ног: „Я“, „Я“ — „ячится“ из колена, из уст, из предплечий, из мозга, из печени, из ступни, из плеча — трон разбит; и единство сознаний утоплено; нет во мне „Я“; в голове моей пусто: покинутый храм; „Я“ в терновом венце, в багрянице, воздевши фонарь, забродило: по собственным жилам; на перепутиях жильных слоняется „Я“, научая сознанию толпы слепых фагоцитов; и — принимая удары бацилл — нет, ужасная пытка узнать это опытно. […] Есть в развитии потрясающий миг, когда „Я“ сознает себя Господом мира: простерши пречистые руки, „Я“ сходит по красным ступеням, даруя себя в нем кишащему миру. […] Мне — быть распятым страшной ватагою; и — повторить для свободы творимого мира то самое, что уже свершилось: то — путь „Чела Века“. На этом пути посвящения в „Я“ — добровольно покинувши Ум (или Храм под Челом) опускаются по ступеням с ума, т. е. — сходят с ума, в ад глухих подсознаний, чтоб вывести из мрачнейших пастей глухого, подземного ада огромные толпы чудовищ — в Свет Умный; то — ужас; то — искус: остаться на век с-ума-сшедшим . Схождение с ума — нисхожденье голубя „Я“ на безумное; с-ума-сшедшие озаряют низринутым „Я“ — подсознания мраки; своим золотым фонарем озаряют пути допотопным чудовищам; вочудовищнившись, — открывают возможности вочеловечиться птеродактилям, реющим в нас: то — бациллы сознания. — Светочем „Я“ просветится бацилла»[133]. Наверное, о чем-то в этом роде и будет мечтать Фуко, когда в своей «Истории безумия» он поставит себе целью не говорить о безумии, а разговорить само безумие, чтобы оно, не переставая быть безумием, рассказывало о себе, как о безумии, — словами Полония: «Though this be madness, yet there is method in’t». За взвинченностью и неистовством формы, напоминающими синдром амока, скрывается абсолютная содержательная выверенность, и мы не ошиблись бы, если, переведя услышанное в нормальный, темперированный строй изложения, опознали бы в нем страницы штейнеровской «Теософии», повествующие об эволюционном расширении Я до (астральной, эфирной и физической) телесности, после чего названная троякая телесность трансформируется в троякий дух ( самодух как преобразованное астральное тело; жизнедух как преобразованное эфирное тело, и духочеловек как преобразованное физическое тело), так что дух оказывается уже не антиподом тела, а самим, но сознающим себя, телом[134]. Схождение с ума, принятое в кривой оптике повседневности за диссоциацию личности, воспринимается как вхождение в ум, но уже не в прежний островок ума с законсервированным в нем парциальным дневным сознанием, а в (если угодно) океанские дали ума, в которых, по мере их заполнения сознанием, не остается уже места никакому подсознанию. Схождение с ума обнаруживает себя в этом смысле как сбрасывание личинок Я (на языке антропософии: прижизненное прохождение так называемой «Камалоки» ), во избежание опасности застрять и зажить в одной из личинок, как в себе. Отсюда и серия сплошных «не то» , непрекращающееся разбивание гипсовых масок, столь ужаснувшее солидных и респектабельных современников. «Не то» , в другом ракурсе взгляда, означало «не туда» : оттого и «не то» , что «не туда» ; сходить с ума следовало не вниз, в быт, сужаясь и унижаясь до Люб, Нин, Ась и Наташ с последующими фокстротами и клоунадами в берлинских ресторанах, но и не вверх, в (штейнеровские) интуиции, торопясь расширить себя до духочеловека, чтобы болтаться в нем потом как в не своем размере, а в двухтысячелетний разгон европейской истории, повторенной в личном онтогенезе. Похоже, это и предвидел «чудак» , внушая — в самом пекле с-ума-схождения — себе и всем, что, сходя с ума, он не сойдет с ума[135]. Потому что противоположностью ума было здесь не безумие, а новый ум, который в привычной оптике прежнего и виделся безумием. Всемирная история подводила итоги на сей раз в Кучино: как растянутый на тысячелетия Bloomsday одной жизни, панорамно (из прижизненно удавшегося посмертия) проживающей себя как становление европейского самосознания, и, наверное, об этом и гласила приведенная выше парафраза флоберовского: «Madame Bovary, c’est moi» : «Я ни Котик Летаев, ни Борис Бугаев, ни Белый; я — „История становления самосознающей души“».
9.
Что здесь особенно — даже с оглядкой на специфически русскую «астральность» — сбивает с толку, так это то, что для автора история не только повод найти себя, но и свести при этом счеты с собой, со своей отягченной проблемами субъективностью, что значит: не просто размышлять над историческим прошлым, но и жить в нем, как в настоящем, своем настоящем. Это полностью соответствует штейнеровской максиме: «Мысли другого человека должно рассматривать не как таковые — и принимать или отвергать их, — а нужно видеть в них вестников его индивидуальности. […] Философия никогда не выражает общезначимых истин, она описывает внутренний опыт философа, посредством которого последний толкует явления»[136]. Понятно, что при таком повороте — сверте — сознания вопрос решается уже не на уровне безличных репрессивных техник академического дискурса, по типу: «можно» и «нельзя» , а исключительно на личностном уровне: «может» или «не может» , — в том именно смысле, в каком это запечатлено у Мандельштама в стихах на смерть Андрея Белого: «Толпы умов, влияний, впечатлений / Он перенес, как лишь могущий мог» . Говорят о болезни, не видя при этом, что дело не столько в самой болезни, сколько в её, так сказать, включенности в целое, расположенности в целом. В конце концов, отчего бы и исторической науке не расти из сора, не ведая стыда! Если знать, что́ в жизни и мысли Белого значил Ницше (по сути, его второй, вместе с Соловьевым, детоводитель к Штейнеру), нетрудно будет, без всяких натяжек, охарактеризовать технику написания «Истории становления самосознающей души» как своего рода управляемую патологию . Болезнь Ницше и была ведь в некотором роде прямым следствием самоидентификации с историей: от последних всё еще вменяемых записей перед умопомешательством — «Вся история, как лично пережитая , — результат личных страданий (только так всё будет правдой)»[137]— до туринских писем, створяющих, в делёзовском смысле, критику с клиникой: «Среди индусов я был Буддой, в Греции — Дионисом; Александр и Цезарь — мои инкарнации, также и поэт Шекспира — лорд Бэкон; я был напоследок ещё и Вольтером и Наполеоном, возможно, и Рихардом Вагнером … Я к тому же висел на кресте; я Прадо; я также отец Прадо; рискну сказать, что я также Лессепс … и Шамбиж; я каждое имя в истории»[138]. Не нужно никакого напряжения мысли, ни даже мысли, чтобы увидеть здесь сумасшествие; напротив, мысль могла бы начаться с допущения, что сумасшествие не в самом сказанном, а в факте его неуместности, персонального несоответствия; подобно автору «Единственного и его достояния», не смогшему фактически стать «единственным» и оттого стушевавшемуся в комиссионера, Ницше — «после смерти Бога» и тщетных попыток занять вакансию — стушевался в безумие[139]. Что случай Белого относится к тому же разряду placet experiri, нет нужды доказывать; говорил же о нем еще Вячеслав Иванов, что он «как личность, пожалуй, более сложное явление, чем даже Ницше»[140]. Вот типичная параллель к цитированным выше отрывкам из туринских писем: «Катастрофа Европы и взрыв моей личности — то же событие; можно сказать: „Я“ — вина; и обратно: меня породила война; я — прообраз; во мне — нечто странное… Я, может быть, первый в нашей эпохе действительно подошел к… жизни в „Я“… Удивительно ли, что мое появление в Швейцарии, Франции, Англии, как причины войны, порождало тревогу и ужас? Они — смутно чуяли…»[141]. Такого концентрированного и неразбавленного безумия Ницше достиг разве что в последнюю энгадинскую осень, особенно в «Ecce homo». Белый жил им — едва ли не ежедневно: с риском перестать быть принимаемым всерьез[142]. Ничего удивительного, если всерьез не принималась в нем именно антропософия, или — в другом ракурсе — именно он не принимался всерьез в антропософии, ставшей, начиная с 1912 года, содержанием его жизни. Всё выглядит так, как если бы в теме Белый и антропософия доминировало не просто непонимание, а непонимание намеренное и даже культивируемое, к тому же в немалой степени подпитываемое жанром сплетен: берут, скажем, следующую дневниковую запись Блока: «О Боре и Штейнере. Всё, что узнаю о Штейнере, всё хуже»[143], и возятся с ней, как с солидным источником (источник — Э. К. Метнер, ухитрившийся написать о Штейнере книгу, не прочитав книг самого Штейнера[144]). В этом и лежит парадокс беловедения, который — мы говорили уже выше — не дано избежать ни одному сколько-нибудь серьезному исследователю: чтобы знать Белого, надо знать антропософию, а чтобы знать антропософию, надо знать её не с вторых или десятых рук, а саму . То, что после встречи с Штейнером и в антропософии другим стал не только человек Белый, но и Белый-писатель, факт, не требующий доказательств. Изменился, в первую очередь, стиль [145], в том именно смысле, в каком об этом писал Г. Шпет: «От нас теперь потребуется стиль. До сих пор мы только перенимали. […] Ответственный подвиг принимает на себя Андрей Белый преждевременным выполнением обетования — потому что стиль может явиться только после школы»[146]. Отчего же «преждевременным» , если как раз «после школы» ! «Весело переживаю студентом себя, забывая годы хожденья по миру „писателем“»[147]. Вопрос можно поставить и иначе. Не: чем стал писатель и человек Белый в антропософии, а: чем стал бы он без антропософии. Факт, что антропософия усугубила состояния его отроду кризисного сознания. Но факт и то, что она научила его растождествляться с ними и даже контролировать их. Дело — и на этот раз — было не в самой болезни, а в том, что от нее нельзя было избавиться, без того чтобы не выплеснуть вместе с ней и себя, как художника[148]. Нужно попытаться однажды представить себе этот поток содержательного безумия, врывающийся из подсознательного в сознание, но не затопляющий сознание, а перерабатываемый им в ритм и стиль, чтобы перейти от Белого, рекапитулирующего ницшевскую катастрофу, к Белому, медитирующему тексты Штейнера. «Так с первых же личных уроков во мне изменился рельеф отношения к себе, к нему, к пути, — в сторону и большего доверия к себе в темах медитации, и в темах узнаний о своих телах; но — к меньшему доверию к опыту „ПИСАТЕЛЯ“, „ДЕЯТЕЛЯ“ и т. д. Доселе мне верили, как „ПИСАКЕ“; пожали б плечами, если б я их стал уверять, что могу НЕЧТО делать в связи с „КАК ДОСТИГНУТЬ“; доктор установил меж нами такую почву общения, где всё стало — наоборот: потенциально заданный „ЭСОТЕРИК“ вопреки всему стал проявлять следы жизни, а „ПИСАТЕЛЬ БЕЛЫЙ“… рос в землю. Всё это потрясало меня»[149].