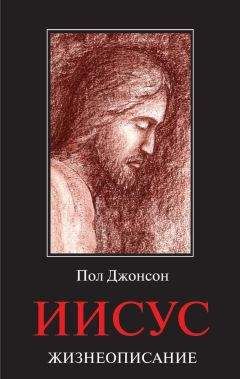Карен Свасьян - …Но еще ночь
3.
Сказанное — in concreto — умещается в двух пунктах, фокусирующих книгу Белого во всем её своеобразии. Эти пункты суть биографичность и антропософичность , причем первую — во избежание общих мест — следует рассматривать как следствие второй. Если научно-критическое исследование хочет быть не экзекуцией исследуемого материала путем подведения его под заведомо заданные стандарты, а пониманием, то ему приходится наблюдать предмет из него самого, в точке его имманентности. Имманентность «Истории становления…» — антропософия , причем уже не переведенная на эзопов язык, как в книгах, опубликованных Белым после возвращения на родину в 1923 году, как раз одновременно с официальным запретом антропософии, а полностью и подчеркнуто открытая. Можно, конечно, будучи историком ex cathedra, держаться определения, согласно которому история «не больше, чем то, во что у нас есть основания верить как в нечто подлинное из всего, что мы поняли в явленном нам и подтвержденном документами прошлом»[112], но, очевидно, что при таком раскладе понятий «История становления самосознающей души» остается книгой за семью печатями. Наверное, в этом и заключается главная трудность беловедения: специалист по Белому обязан (чтобы не сказать, вынужден) не только считаться с антропософией, по крайней мере, в контексте наследия Белого после 1912 года, но и элементарно знать её; в противном случае, он рискует обессмыслить саму свою специальность, ища искомое не там, где оно лежит, а там, где удобно искать. В письме к Иванову-Разумнику от 1–3 марта 1927 года Белый резюмирует свой опыт построения автобиографии формулой reductio ad essentiam : «Я ни Котик Летаев, ни Борис Бугаев, ни Белый; я — „История становления самосознающей души“»[113]. Если понимать это, держась не собственных, а — диаметрально противоположных — авторских представлений о Я, то придется воспринимать прочитанное уже не в жанре бонмо или эпатажа, а как факт . Любопытно, что перечисленные предикаты равнозначно атрибутируются как реальному автору, так и его литературным произведениям; «Котик Летаев» в этом смысле выдуман «Андреем Белым» не в меньшей степени, чем этот последний «Борисом Бугаевым» , который, при всех прочих и, похоже, бо́льших шансах на оригинальность, и сам оказывается выдумкой sui generis , столь же очевидной в праксисе медитации, сколь очевидны выдуманные литературные персонажи в обыкновенной читательской оптике. Можно (математически) охарактеризовать ситуацию как уравнение с неизвестным Я, в которое подставляются значения переменной и которое решается, когда подстановка дает верное равенство, или корень уравнения. Корень уравнения « Андрея Белого» , во всем объеме предсказуемых и непредсказуемых подстановок его жизни, назван (найден) им самим в цитированном письме: «История становления самосознающей души» . Эту самоидентификацию можно понимать в двояком смысле: фигурально (эксцентрично, катахретически) или буквально . «В моей жизни есть две биографии: биография насморков, потребления пищи, сварения, прочих естественных отправлений; считать биографию эту моей — всё равно, что считать биографией биографию этих вот брюк. Есть другая: она беспричинно вторгается снами в бессонницу бденья; когда погружаюсь я в сон, то сознанье витает за гранью рассудка, давая лишь знать о себе очень странными знаками: снами и сказкой»[114]. Нет сомнения, что для самого автора эта вторая биография была бы лишена смысла, не будь она буквальной , а значит, и единственно адекватной, как если бы за гражданским именем Бориса Николаевича Бугаева и его литературной аватарой «Андрей Белый» скрывалось его действительное имя: «История становления самосознающей души» . Понимание, в этом пункте, рискует войти в тупик, потому что из двух означенных смыслов — фигурального и буквального — ему, в академическом раскладе, доступен только первый, а если и второй, то не иначе, как с поправкой на эксцентрику и парадоксальность. Понять сказанное буквально, без издержек эксцентрики и парадоксальности, представляется возможным, если вобрать его в фокус имманентности , каковым в случае Белого оказывается антропософское учение о Я.
4.
Исходной позицией и punctum saliens этого учения является его несовместимость с общепринятыми представлениями о человеке, прочность которых гарантирована тем, что их в равной степени разделяют как обычные люди, так и ученые мужи, причем остается не совсем ясным, обычность ли фундирована здесь научностью или научность обычностью. Считается очевидным, что человек несет свое Я в себе (в теле) и, как Я, соотнесен с внешним миром. Мир (некая мировая материя) извне воздействует на Я, которое «из себя» отвечает на действия мира восприятиями. Этому расхожему и академическому убеждению противопоставлена антропософская позиция: «Одной из наиболее скверных иллюзий является вера человека в то, что он торчит в своей коже»[115]. В докладе, прочитанном на IV философском конгрессе в Болонье в 1911 году, Штейнер подробно развил эту точку зрения, согласно которой Я абсолютно неприемлемым для философской традиции образом обнаруживается не в противостоянии внешнему миру, на аффицирования которого оно «изнутри» реагирует-де восприятиями и ощущениями, а в самом внешнем мире, среди чувственно воспринимаемых вещей, которые именно в своей воспринятости телесно переживаются как сознание и воля. Надо «представлять себе Я не в телесной организации с впечатлениями, получаемыми им „извне“, а переместить его в закономерность самих вещей, видя в телесной организации лишь нечто вроде зеркала, в котором жизнь Я, протекающая внетелесно в трансцендентном, отражается, как Я, посредством органической деятельности тела. […] „Я“ расположено не в теле, а вне его, и органическая деятельность тела представляет собой лишь живое зеркало, из которого отражается лежащая в трансцендентном жизнь „Я“»[116]. В берлинской лекции 24 марта 1916 года это описывается еще и следующим образом: «Связь души человека с человеческим телом должна быть представлена совершенно иначе. Она должна быть представлена так, что тело как бы само удерживает в себе душу посредством процесса познания. В том же смысле, в каком цвета, свет и тона находятся вне нас, сама человеческая душа находится вне тела, и подобно тому как действительность вносит в нас цвета и тона через органы чувств, содержания души живут как бы на крыльях чувственных восприятий.
Душу не следует представлять себе как некую более тонкую телесную сущность, обитающую во внешнем грубом теле, но как сущность, которая сама связана с телом таким образом, что тело, для того чтобы удержать душу, совершает ту же деятельность, что и мы в познании. Если мы понимаем, что то, что мы называем нашим Я, носителем нашего самосознания, в некотором роде так же находится вне тела, как тон и цвета, то нам становится понятным отношение человеческой души к человеческому телу. Когда человек, будучи телесным существом, говорит „Я“, он воспринимает это Я как бы с той же стороны действительности, с которой он воспринимает цвета и тона. И сущность тела состоит в том, чтобы как раз уметь воспринимать это Я, то есть сущность самой души»[117].
5.
Нетрудно догадаться, что прямым следствием из сказанного — практически и по существу — оказываются трудности самоидентификации. Если Я, в смысле приведенных отрывков, расположено вне тела и лишь отражается в теле как зеркальный образ и представление, то речь, строго говоря, может идти уже не о представлении, а о представлениях, то есть о некоем множестве Я, ежемгновенно возникающих и исчезающих, сообразно специфике воспринимаемого; в лекции, прочитанной в Берлине 16 декабря 1911 года в рамках цикла «Пневматософия», Штейнер говорит в этой связи о «весьма сомнительном Я»[118]: «Каждый и есть то, чем это Я как раз наполнено. Если кто-то как раз играет в карты, он и есть то, что дают впечатления карточной игры. […] До этого Я и можем мы доходить в сознании. Оно достижимо, но как нечто в высшей степени непостоянное, мерцающее». Что здесь открыто противопоставлено философской традиции, в которой человеческое Я — сущность, душа, сознание — всегда мыслилось либо как субстанция, запертая на время жизни в теле, либо как чисто номиналистическая фикция sine re substante , так это понимание Я не как чего-то изначально готового и законченного (после чего приходилось бы решать, идет ли речь о готовой субстанции или о готовой фикции), а как становления , в котором природа пробует свои возможности на более высокой, постбиологической ступени эволюционного процесса, где уже не частное, индивидуальное подводится под общее и объясняется общим, как в мире физики и биологии, а общее определяется индивидуальным; антропософски понятое Я, в его сиюминутном эмпирическом статусе, не реагирует из тела на внешний мир, а регулярно возникает на самом теле в восприятии вещей как переживание ; при этом трудность (совпадающая не только по содержанию, но и по объему с мировым процессом, который, за неумением справиться с ней в пределах одной жизни, растягивает себя индивидуально до множества повторных) заключается в том, чтобы найти среди вещей внешнего мира такие, отражения которых являли бы уже не мерцающее, непостоянное и сомнительное Я, на манер блуждающих огоньков, а адекватное , что значит: способное не только осознавать и понимать мировой процесс, но и персонифицировать его как человеческую индивидуальность , причем так, что думать при этом приходится не о гегелевски-эйфорической иллюзии « мирового духа на коне» , а о «единственном» Штирнера.