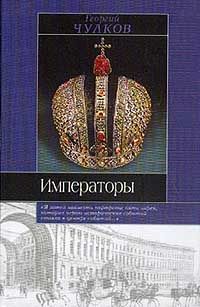Митрополит Георгий (Ходр) - Митрополит Георгий (Ходр) Призыв Духа
Святой отличается от художника способом выражения. Он может выражать себя, если обладает нужной для этого культурой, но может и не выражать, ему довольно мученической кончины. Он может неумело, смешно, скучно пользоваться языком благочестия, но его косноязычные фразы не выражают по–настоящему его мысли. Он ощущает свою победу над грехом как свой единственный путь, вернее — как единственный путь Бога к нему. Он не представляет себе, что находится в мире выражения. Он не осознает, что идет путем очищения. Напротив, он говорит: «Христос умер за грешников, от них же первый есмъ аз», — или что–то подобное этому из другой традиции.
Ближе всех к художнику пророк. Конечно, художник не связан подобно пророку напрямик с Божественным Откровением, он не получает слова по велению Божию. Но пророк, как понимали его евреи, — а они классики в том, что касается пророчества, — есть человек писанного послания и должен его огласить. Бог сказал ему: «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые Я говорил тебе» (Иер. 36, 2). Или «Слово, которое было к Иеремии от Господа». Мы видим, что у древних пророков были свои способы, которые помогали им достигать вершин литературной выразительности. Здесь не место оспаривать традиционное для ислама воззрение, которое отрицает участие Мухаммеда в создании Корана. Но мы знаем, чем наделяет Бог пророка, когда говорит: «Кто уверует в него, кто поддержит его, кто поможет ему, кто последует свету, сошедшему свыше с ним, те блаженны». Заметим, что не сказано: «сошедшему свыше на него», но «сошедшему свыше с ним».
Мы задались вопросом о применении к человеку слова «творец». Что это — аналогия или реальность, имеющая более глубокие корни? Должен ли человек еще что–то совершить на уровне своего отношения к Богу? Есть ли свобода там, где есть человек? Действительно, либо наша свобода относится как–то к Богу, либо ее нет.
Библия мистически говорит нам о свободе, когда повествует о борьбе Иакова с Ангелом (Быт. 32, 23–33). Вернувшись на родину, чтобы встретиться с братом Исавом, преследовавшим Иакова за то, что тот отнял у него право первородства, Иаков перешел через поток вместе с семьей и всем, что имел, а потом остался один. Тогда Ангел, — который обозначает здесь Самого Бога, — боролся с ним до рассвета. Видя, что не одолевает, Он коснулся сустава бедра Иакова и повредил его. Затем Он сказал Иакову: «Отпусти Меня, ибо взошла заря». Но тот ответил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». — «Как твое имя?» — спрашивает Ангел и, получив ответ, говорит: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». — «Скажи мне имя Твое», — просит, в свою очередь, Иаков. Но слышит ответ: «На что ты спрашиваешь о имени Моем? Оно чудно». Иаков получает благословение и называет это место Пенуэл, ибо, говорит он, «я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя».
Здесь нужно отметить, что встреча Бога с человеком происходит ночью, когда все перешли вброд поток. Скорби деторождения приходят ночью, всякие роды происходят ночью, в той ночи, что была до начала, пока не сказал Бог: «Да будет!» Человек всегда яростно борется с Богом, и Бог согласен уступить в этой борьбе. Тогда–то всходит заря в сердце человека. И он становится творцом, потому что узрел лик Божий. Бог просит отпустить Его, и человек становиться таким сильным, что получает новое имя. Изменить имя для евреев, как и для христиан, значило изменить меру ответственности. В этой борьбе, которая вдохновляла великих мистиков, Иаков вводится в свое назначение, в творческую миссию создания нового народа.
Бог дает человеку силу, чтобы противостоять Ему. Конечно, это не значит, что человек побеждает Бога собственными силами. Но это может означать, что Бог хочет быть побежденным. Он хочет, чтобы человек был силен и стоял с Ним лицом к лицу вечно. Такое немыслимо для бога–тирана, для бога, навязывающего свою силу и власть, так же как невозможно такое и для бессильного, слабого человека.
Но может ли всемогущий Бог отречься от Своего всемогущества? Здесь подобает ввести понятие, известное в богословии и в христианской мистике: кенозис, или уничижение. Это слово употребляет апостол Павел в своем Послании к Филиппийцам: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу: но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2, 5–8).
Христос в воплощении скрывает свою славу. Он добровольно отказывается использовать неограниченное могущество. Отказывается, чтобы вступить в диалог с тварью, чтобы быть с человеком в отношениях товарищества, без всякой искусственности. Он умирает из любви, чтобы возбудить любовь, чтобы завоевать человека не насильственным действием, а любовью, любовью, которая отдает себя и которой человек, в свою очередь, должен себя отдать.
Бог не может спасти человека, если не спасет его сначала от рабства, самая опасная сторона которого — быть рабом Бога. Бог не хочет, чтобы человек был его пленником, не хочет порабощать его Своим всемогуществом. Ибо Его могущество есть служение. В самой природе Божией — самоотдача; Он никогда не замыкается на Себе. В Своих отношениях с человеком, еще до диалога в строгом смысле слова, то есть еще до того, как человек начинает вопрошать Его, Бог уже вникает в логику его вызова, соглашается быть вопрошаемым от человека. Он подвергает Себя риску, который предполагает всякая встреча. Совершенно неописуемым и непонятным образом Он Сам приносит Себя во всесожжение. Он низко склоняется в Своей любви, чтобы увидеть перед Собой любимое лицо, ради которого он согласен вечно умирать. Но когда Царь умирает смертью раба и, стало быть, отказывается от вечности Своего Царства, та же самая вечность начинается снова, как поется о том в византийской рождественской песни.
Что верно для искупления, порождающего новую тварь, то верно и для сотворения мира. Приводя в бытие мир, сотворяя в начале небо и землю, Бог впервые уничижил Себя, опустошил Себя ради свободы человека, чтобы человек сам стал творцом, и не по аналогии, а по причастности. Творение мира было только лепетом, только чтением по складам в сравнении с тем, чем стало воплощение. Во Христе истина воссияла всем своим блеском, но она была сотворена не тогда. Диалог спасения начался уже после сотворения мира. Крест обновил творение, открыл и явил свободу. Кто не знает свободы, которую мы имеем во Христе, все же узнают первую свободу, меньшую свободу, как называет ее Августин. Это та свобода, в которой мы внутренне определяем самих себя, в которой мы создаем мир красоты.
Человек не потому творец, что извлекает вещество из ничего, он творец потому, что, благодаря живущей в нем силе, он проникает в то, о чем сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку» (1 Кор. 2,9).
Искусство — наше освобождение от порабощения чувствами и самими собой, выход в мир грядущий, который лежит за пределами чувств и нашей борьбы с самими собой. Искусство — это свобода восстановления бытия. «Сие творите в Мое воспоминание». Искусство — наша Тайная Вечеря с бытием. Мы не пьем на этой Вечере чашу мира сего, тем более — мира иного, но пьем чашу, в которой смесились то и другое вино. Конечно, тайна сия велика. Преступая ее порог, мы можем оступиться. Свобода искусства может стать искушением, которое, если мы подадимся ему, может увести нас от той великой свободы, какую низводит на нас мир святости. Часто бывает, что творение прекрасного становится препятствием творению добра. У выразительности есть пределы, есть и ошибки. Она может вырваться из объятий духа и стать изменой. Поэтому мы не должны смешивать истинную красоту с блестящими узорами эстетизма.
Когда мы превращаем красоту в вопрос школы или принципов и это приводит нас к эстетизму, мы падаем в глубокую пропасть. Эстетизм — дело тех, кто отворачивается от истины и добра и довольствуется созерцанием. Таковые, в конечном счете, живут лишь в мире чувств, тогда как Творец красоты хотел именно превзойти чувства. Эстет — это человек, подверженный всяческим воздействиям и избегающий свидетельства самой красоты. Это человек моды, он довольствуется разговорами о красоте. Он встречается среди людей культурных, погруженных в интеллектуальный комфорт, рассуждающих о свободе, революции и на другие подобные темы. Его забота — защищать позиции, а не штурмовать их. Он одержим всем, что есть оригинального в искусстве, последней новинкой. Он только потребитель искусства. Такие, как он, составляют элиту, которая презирает простых смертных, знающих лишь предыдущую новинку. В глазах эстета важен не видящий, а увиденное.
Искусство враждебно самозамкнутости. Человек не может творить, если не уничижит себя в поисках свободы. Тогда искусство его будет подобно виденному Моисеем на Хориве кусту, который горел, но не сгорал (Исх. 3, 2). Великое искусство не исчезает в своем выражении, не исчерпывается воплощением. Оно не твердит задов, не повторяется, оно не подражает и не позволяет подражать себе. Оно всегда больше, чем его язык, и не дает себя увлечь магией слова. Для нас, арабов, большое искушение — соблазн риторики, красноречия, красивых образов, словесной музыки, игры фразами. Мы еще не поняли, что великое художественное творчество достигает вершины малыми средствами. Евангелист Иоанн написал самую глубокую в мире книгу на греческом языке времен его упадка. У Достоевского, гения романа, слог тяжеловат. Искусство может быть более или менее умелым в своем выражении. Вся проблема в яркости и силе зрения, которые обновляют перед нами мир.