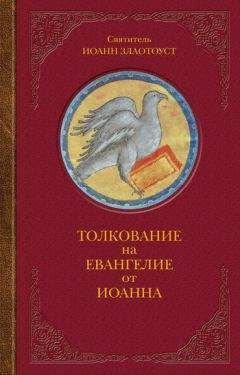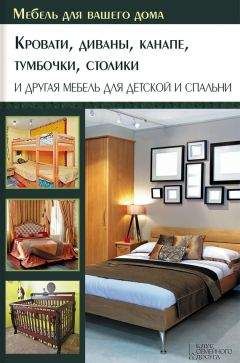Иоанн Златоуст - Толкование на Евангелие от Матфея. В двух книгах. Книга II
2. В другом месте, рассуждая о пище, Христос пренебрегает соблазном; этим Он поучает нас различать время, когда надобно заботиться о соблазняющихся, а когда можно и оставить без внимания. Да и самый образ, как Он дает подать, открывает, кто Он таков. Для чего не велит Он заплатить из хранившихся у них денег? Для того, как я выше сказал, чтобы и в этом случае показать, что Он есть Бог над всем и что море в Его власти. Эту власть Он показал и тогда уже, когда запретил морю, и тому же самому Петру позволил ходить по волнам. Эту же самую власть и теперь показывает, хотя другим образом, но также приводит в великое изумление. В самом деле, не мало значило сказать о бездне, что первая же рыба попадется с требуемою пошлиною и что повеление Его, подобно закинувшему сеть в бездну, поймает рыбу со статиром. Но дело власти прямо Божественной и неизреченной – повелеть морю, чтобы оно принесло дар, и показать, как во всем оно Ему покорно, и тогда, когда, взволновавшись, вдруг утихло и среди неистовства волн подъяло сослужителя своего, и теперь также, когда платит за Него требующим подати. И даждь им, говорит, за Мя и за ся. Видишь ли великое предпочтение? Познай же и глубокую мудрость Петрову. Об этом важном обстоятельстве не упомянул Марк, ученик его, как о великой чести, оказанной Петру Христом, но об отвержении его и он написал, а о том, что могло бы прославить Петра, умолчал, – может быть, потому что учитель запретил говорить о нем то, что относилось к его славе. За Мя и за ся, – так как и Петр был первенец. Ты дивишься силе Христовой? Подивись и вере ученика, который так послушен был в случае столь затруднительном. Действительно, для человеческого разума дело представлялось слишком трудным. В награду за такую-то веру Христос и присоединил его к Себе при плате пошлины: за Мя и за ся. В той час приступиша ученицы ко Иисусу глаголюще: кто убо болий есть в Царствии Небеснем? (Мф. 18, 1). Нечто человеческое действовало в учениках. На это указывает и Евангелист, говоря: в той час, то есть когда Христос предпочел Петра всем прочим. И Иаков был первородный, но Иисус ничего подобного не оказал ему. Стыдясь обнаружить страсть, которою недуговали, они не говорят прямо: почему Ты отдал Петру предпочтение пред нами? Разве он больше нас? Они стыдились сказать так, а спрашивают неопределенно: кто убо болий есть? Когда Иисус оказывал предпочтение троим из них, в них не обнаруживалось ничего подобного. А когда честь предоставлена была одному только, они опечалились. И не это только, но и другие обстоятельства приняв в соображение, они воспламенились страстью. Так Христос сказал некогда Петру: дам ти ключи Царства Небеснаго. Блажен еси Симоне, вар Иона (Мф. 16, 19, 17); и здесь говорит: даждь им за Мя и за ся; к тому ж и большее дерзновение, какое они неоднократно видели в Петре, раздражало их. Если же Марк и не говорит, что они вопрошали, а в себе самих помышляли, то это нимало не противоречит первому: вероятно, и то, и другое было с ними; еще и прежде неоднократно они приходили в такое состояние, а теперь выразили на словах, и в себе самих помышляли. Но ты смотри не на одно лишь то, что достойно было бы порицания, а размысли и о том, во-первых, что они и теперь ничего земного не ищут; во-вторых, что они после оставили и эту слабость и взаимно друг другу уступали первенство. Что ж касается до нас, то мы не можем возвыситься и до погрешностей их; не спрашиваем о том, кто больше в Царствии Небесном, но кто больше в царстве земном, кто богаче, кто сильнее. Что же говорит им Христос? Он раскрывает их совесть и отвечает на их чувствования, а не просто на слова. Призвав отроча, рече: аще не обратитеся и будете, яко отроча сие, не внидете в Царствие Небесное (см.: Мф. 18, 2–3). Вы доискиваетесь, говорит, кто больше, и спорите о первенстве. Я же говорю: кто не будет ниже всех, тот недостоин Царствия Небесного. И прекрасный представляет пример. Но и не представляет только, а на самом деле поставляет посреди их отрока, пристыжая самым тем, что видят они пред собой; убеждает быть столько же смиренными и простосердечными, как и младенец, который не имеет ни зависти, ни тщеславия, ни желания первенства, но обладает высокою добродетелью простоты, беззлобия и смирения. Итак, нужно иметь не одно только мужество и благоразумие, но и добродетель смиренномудрия и простоты. Когда мы не имеем этих добродетелей, то, сколь бы ни велики были наши дела, спасение наше сомнительно. Младенца хотя бы поносили, хотя бы наказывали, хотя бы хвалили, хотя бы честили, он ни в первом случае не досадует и не укоряет, и в последнем не гордится.
3. Видишь ли, как Он опять призывает нас к добрым естественным делам, показывая, что их можно совершать по свободному произволению? Этим искореняет Он и нечестивое учение манихеев. В самом деле, если природа есть зло, то почему же Он почерпает из нее примеры любомудрия? Что ж касается до дитяти, которое было поставлено пред учениками, то, по моему мнению, это было дитя в полном смысле, свободное от всех указанных страстей, – дитя, чуждое и гордости, и тщеславия, и зависти, и сварливости, и всех подобных страстей, – дитя, украшенное многими добродетелями, как-то: простосердечием, смирением, спокойствием, и которое ни одною из этих добродетелей не гордится; а это, то есть обладать качествами и между тем не надмеваться ими, – свойство высокой мудрости. Потому-то Христос привел его и поставил посреди. Но и этим не ограничил Он Своего наставления, а простер его еще далее: и Иже аще приемлет отроча таково во имя Мое, Мене приемлет (Мф. 18, 5). Не только, говорит Он, если сами вы таковыми будете, получите великую награду, но даже если ради Меня будете почитать таковых, то в награду за почтение к ним назначаю вам Царство. Даже выражает более того: Мене, говорит, приемлет: так Мне любезно смирение и простосердечие! Под именем младенца здесь Он разумеет людей столько же простодушных, смиренных, отвергаемых и презираемых людьми обыкновенными. Чтобы сделать речь более убедительною, Он усиливает ее далее не только обещанием чести, но и угрозою казни. И Иже аще соблазнит, продолжает Он, единаго малых сих, уне есть ему, да обесится жернов осельский на выи его, и потонет в пучинеморстей (см.: Мф. 18, 6). Как те, говорит Он, кто почитает таковых ради Меня, получат Небо и даже честь большую самого Царства, так понесут жесточайшее наказание и пренебрегающие их (это означается словом: соблазнит). Не удивляйся, что Он обиду называет соблазном: многие малодушные нередко соблазнялись тем, что их презирали и бесчестили. Таким образом, увеличивая преступление, Он представляет проистекающий из него вред. Наказание же Он изображает уже иначе, чем награды, объясняя – именно – тяжесть его вещами, нам известными. Так, когда Он особенно хочет тронуть людей нечувствительных, то приводит чувственные примеры. Поэтому и здесь, желая показать то, что они подвергнутся великому наказанию, и обличить гордость тех, которые презирают таких людей, представляет чувственное наказание – мельничный жернов и потопление. Сообразно с предыдущим надлежало бы сказать: тот, кто не приемлет одного из малых сих, Меня не приемлет, – что тяжелее всякого наказания. Но так как на людей бесчувственных и грубых это страшное наказание мало бы подействовало, то Он говорит о жернове мельничном и потоплении. Не сказал, что жерновный камень повешен будет на шею его, но что лучше бы было потерпеть такое наказание, показывая этим, что несчастного ожидает другое, тягчайшее зло; если то несносно, тем более это последнее. Видишь ли, какая ужасная угроза? Сравнивая ее с известною для нас угрозою, Он представляет ее в большей ясности; а указывая на большую тягость, заставляет страшиться большего наказания, нежели каково чувственное. Видишь ли, как Он с корнем исторгает высокомерие? Как врачует недуг тщеславия? Как научает нигде не искать первенства? Как внушает домогающимся первенства везде искать последнего места? Подлинно, нет ничего хуже высокомерия. Оно лишает нас самого обыкновенного благоразумия, выставляет глупцами, или, вернее, и совсем делает безумными. Если бы кто-нибудь, будучи не выше трех локтей, усиливался быть выше гор и считал бы себя таковым; если бы он стал вытягиваться, как будто бы был выше горных вершин, – то мы не стали бы искать другого доказательства его безумия. Так точно, когда ты увидишь надменного человека, который считает себя лучше всех и за бесчестие ставит жить вместе с простыми людьми, то не ищи уже другого доказательства его безумия. Такой человек гораздо более достоин посмеяния, нежели глупые от природы, потому что сам добровольно навлек на себя эту болезнь. И не потому только он достоин сожаления, но и потому, что впадает в бездну зла, не чувствуя того. В самом деле, может ли он когда-нибудь сознать грехи свои должным образом? Может ли почувствовать свои преступления? Диявол, взяв его, как непотребного раба и пленника, влечет его, куда хочет, всячески муча его и подвергая бесчисленным поруганиям; наконец он доводит таких людей до такого безумия, что, следуя его внушениям, они начинают гордиться пред детьми и женами своими, даже пред предками, – или же, напротив, надмеваться знаменитостью этих последних. А что может быть того безумнее, когда гордятся совсем противоположными вещами: одни-тем, что имели бедных отцов, дедов и прадедов, а другие – тем, что имели славных и знаменитых предков? Итак, чем смирить гордость и тех, и других? Одним надлежит сказать: поднимись подальше своих дедов и прадедов: может быть, много среди них найдешь поваров, погонщиков, харчевников; а тем, которые гордятся собою, смотря на низость предков, надлежит сказать противное: и ты тоже посмотри на предков своих, живших пораньше: найдешь многих, гораздо тебя знаменитейших.