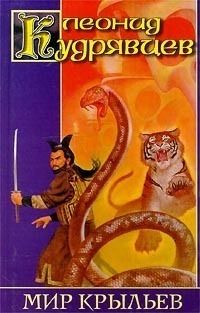Александр Макаров - Паутина
Николай слушал — и в душе его металась буря; его подмывало и расхохотаться в лицо Капитолины, и благодарить ее за откровения. Он неплохо, казалось ему, знал колхозную кладовщицу Минодору Прохоровну и ее отца Прохора Петровича, но, по-видимому, знал — да не тех. Он тысячи раз видал их дом вблизи и издали, но, очевидно, видал — да не тот. И дом на высоком пригорке, словно напоказ отскочивший от других домов, и хозяева в нем, точно в назидание коренным узарцам привезшие откуда-то недеревенскую дородность, были известны всем — и неведомы никому. «Ведь островок, плевая точка в море, а гляди, сколько дряни! — возмущался Юрков, слушая Капитолину. — Видимо, самая пакость с округи собралась под одну крышу, вся их труха, все подонки, раз главная проповедница здесь… А попробуй не сколупни эту коросту — размножатся, натащат в свою паутину черт те кого; мух, комаров, слепней еще сколько угодно. Но диковина, страшная диковина!»
— Девушка, вы не… это все правда? — наконец строго спросил он.
Капитолина перестала дышать, долго в упор посмотрела на Юркова и, вытянув руку вдоль стола, тихо-тихо сказала:
— Рубите по локтю… потом проверьте.
Ласково похлопав девушку по руке, Николай улыбнулся:
— Уберите, пригодится: по себе знаю… Значит, вас Капой звать?.. Спасибо, и слушайте….
Через две-три минуты они вышли из будки.
— Арсен, проводи Капу на огород, — сказал Николай. — Что делать им с подружкой, она знает… Айда, светает. Утром забеги ко мне.
Звезд на небосводе стало меньше, а оставшиеся заметно приподнялись и потускнели. Контуры деревьев и построек, расплываясь, словно таяли в предрассветном темно-сером мареве. От реки по улице щекочущими тело волнами наплывал холодок. В стороне поймы, стараясь перекричать друг друга, скрипели неугомонные коростели. Над кривой чертою еще темного леса чуть заметно проступала розоватая полоска зари. В чьем-то дворе, громко всхлопнув крыльями, пропел петух.
— Ах, хорошо! — будто похвалив певца, проговорила Капитолина.
— Вы, Капочка, только не трусьте, — напутствовал ее Арсен, пытаясь шагать в ногу со спешившей девушкой. — Их там раз, два и обчелся, а нас — армия. И знаете что — пишите. Я стану наведываться, а записки под камень за баней… Порядок?.. Ну, счастливо!
Арсен помог Капитолине перелезть через изгородь; и она, словно мотылек, мелькая над травами, понеслась к маячившему на ботве своему белому платку.
IX. В ПОДВАЛЕ И ПОД СОЛНЦЕМ
Поручив Серка отцу, Николай направился к Андрею Рогову. В избе председателя мерцал огонек, хозяйка растапливала печку. Юрков постучал в раму окна, вызвал Рогова на улицу и, не успев свернуть цигарки, услышал скрип деревяшки во дворе. Председатель появился в воротах немного заспанный, однако уже одетый в свою суворовскую походную форму: легонький, когда-то синий, теперь вылинявший плащ, наброшенный поверх белой майки, черные штаны и давным-давно стоптанный кирзовый сапог. Разглаженная надвое русая бородка и пегие выцветшие полосами волосы его были сыры; отсыревшим казался и голос.
— Здорово, — пробурчал он, разглядывая светлеющее небо.
— Здравствуй, Андрей Андреич, — ответил Юрков. — Зайдем в правление, дело есть.
— Довез? — спросил Рогов, поворачивая в сторону конторы.
— Довез… Дезертиром оказался, Антоном Тимофеевичем Зайчихиным. Бывший причетник из Кудинского района.
— Сосед.
Николай усмехнулся.
— Такие соседи ближе водятся, — сказал он, входя в помещение. — Хотя бы в хоромах на Коровинском пригорке.
— И ты про секту?
— А тебе чего-то уже известно?
Рогов посопел, свертывая цигарку, пыхнул дымом и явно нехотя проговорил:
— Болтают… Либо блажь, либо стародавняя отрыжка, только путного покуда ничего… Прося у меня вечером была, по секрету сказала, что твою жену в секту сватали. Ну, а я это год назад знал, мне сама Лиза говорила. Быльем поросло!
— Нет, не поросло, Андрей Андреич, слушай…
Николай стал рассказывать, что знал от Капитолины. В предутренней полутьме и за табачным дымом выражение лица председателя казалось неясным. Только по тому, что дым этот все чаще и гуще клубился в его бороде, Юрков догадывался, сколь велико волнение старого воина.
— Сам я подозревал с весны, — продолжал Юрков, — но ведь подозрение не факты. Вчера был в исполкоме — не верят; был в милиции — обещали как-нибудь наведаться; был в прокуратуре — Кропотливина сказала, что приедет сама, как только вернется прокурор; в райкоме — ни души, все по сельсоветам… А время теперь не ждет!
Рогов бросил окурок под ноги. По полу брызгами рассыпались искры. Председатель забухал было по ним своей деревяшкой, потом вскочил и остервенело затоптал их здоровой ногой. Посидев, чтобы вывернуть наизнанку пустой кисет, он, казалось, всем нутром выдохнул свое излюбленное ругательство:
— Кролики!.. Дай закурить… И ты кролик, ясно?.. Почему не сказал нам раньше?.. Не доверял?.. А нам Владимир Мартынович Азин доверял. А Владимиру Мартыновичу Азину — Владимир Ильич Ленин, ясно?.. Спиридон, Фрол, самосуд… Да Спирька с Фролкой мимо контрреволюции никогда не стреляли, ясно?.. Это — люди, а не вытеребленные кролики вроде нашего исполкомовского секретаря… На таких ревтрибунал девятнадцатого года нужен!
— Ну уж это анархия, — неожиданно вырвалось у Юркова.
Рогов, точно обжегшись, опять пыхнул дымом.
— Молочко над усами вытри, — помолчав, с притворной ласковостью проговорил он. — И не плюй на то, чего не нюхал.
Юрков не обиделся — понял, что сказал не то.
— Ана-а-архия, — продолжал Рогов с язвительной ухмылкой. — Такая анархия получше нас с тобой давно бы навела порядки в Минодорином королевстве. Да заодно бы и кроликов на свет вытащила!.. Тебя бы первого за хвост да на мороз. Знал, подозревал и помалкивал — значит, измена; вот как мы эти поступки ценили по нашему, по-трибунальски!.. Носом крутишь, язык пристыл?!.
Юрков знал: прорвало Рогова — молчи.
— Жалею, не знал, что там два дезертира и убийца, без милиции бы не приехал, — сказал он, когда Рогов смолк. — Теперь попробуй вытребуй сам.
— Мне до района не дойти; у меня одна нога, да и та разрывается между взметом пара и сенокосом, а половина лошадей воюют… Я вот выйду на разнарядку, расскажу народу, как полагается, всю правду и поведу глазами на Минодорин пригорок…
— Этим не шутят, товарищ Рогов!
— Ты знаешь, что я не шутник.
— Но сначала поговорить, объяснить, убедить…
— Кого? — вскочив, рявкнул Рогов. — Кто предает Родину, кто детей топит, кто колхоз обворовывает?
— Я говорю о районе, с районом надо поговорить… Тебе лично.
Рогов сел, в две-три глубоких затяжки покончил с папироской, но окурок не швырнул, а воткнул в пепельницу и до скрипа прижал толстым пальцем.
— Ладно, проведу разнарядку, сгоняю в сельсовет, позвоню прямо в прокуратуру. Станут волынить — сами распотрошим, так и заявлю. А ты иди поспи; гляди, глаза-то, как у протухлого судака… От работы освобождаю, но за Минодорино гнездо кладу ответственность на тебя. Теперь пойдем, народ подходит. Надо собрать еще ревкомиссию, пускай они кладовку по гарнцевому сбору…
— А это рано, Андрей Андреич: спугнешь весь выводок.
— Тоже верно. Хорошо, повременим.
Они вышли к колхозному амбару, где возбужденно гудели до двух десятков мужских и женских голосов. Причиной шума оказалась копия «святого» письма, написанная ярко-синим карандашом и доставленная сюда стариком Никоном, тем самым, что запевал «Дубинушку» на плотине. Встряхивая бумагой, дед Демидыч допрашивал запевалу:
— Списывала?
— Списывала, — отвечал Никон, крутя сивенькой бороденкой и озираясь на женщин. — Списывала, сам видел, суседке, слышь, снесу… Прекратил!
— Избил всю начисто! — зло выкрикнула Прося. — Туто сенокосье, а туто бабу покалечил.
— Ну уж как-то и покалечил! — защищался Никон; маленький, тщедушный, в посконной крашеной луковым пером рубахе и таких же штанах, он походил на квелого цыпленка; и только звонкий голос и порывистые жесты выдавали в нем недюжинную энергию. — Покалечил… А только и махнул вот этак вот кулаком по платку!..
— Руки, ноги повывертел! — как будто с шутейной издевкой над стариком нападала Прося. — Рядом живем, не скроешься!.. Что в бане богомольничала — полслова не молвил; а за письмо, как беркут утя, истерзал!
— Тьфу, ты, балаболка!.. А еще сватьей доводится. Вот запусти такую в суд, отца-мать оболгет и не поморщится… Повывертел!.. Истерзал!. Сорок годов любяся живем, и вдруг — руки-ноги. Да ежели бы не энтое письмо, дак неужто бы я начал? Молись ты, окаянное сило, хошь в бане, хошь в конюшенке, только суседкам не пиши!.. А так, говорю, прекрати — и р-раз по платку!.. Сердце не выдержало… Тут, говорю, война, сенокосье, а ты, говорю, про светлые одежды и еще, говорю, Оксинью совращаешь, ах ты, говорю, — и р-раз ее по платку!.. А писулю взял, отобрал и сюда, бригадиру Демидычу… Вот как было-то!