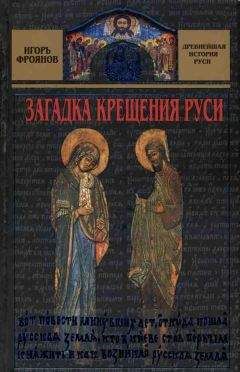С. Рансимэн - Великая Церковь в пленении
Таким образом, в восточном христианстве получила развитие традиция, в которой сочетались апофатическое богословие и творение молитвы и которая разрешала противоречие между познаваемым и непознаваемым, делая различие между сущностью и энергиями или силами Божиими. Это учение не было определенно, потому что оно не подвергалось сомнению. Много веков спустя Марк Евгеник должен был защищать Паламу от обвинения в том, что тот создал новое учение, и говорил следующее: «Было несвоевременным раскрывать различия в действиях Божиих перед людьми, которые испытывали трудности даже в определении различия ипостасей». В те древние времена было важным настоять на простоте Божией, но «с мудрым благоразумием Божественные учения находили разъяснение в нужное время».[202]Извинения Марка были излишни; никто не испытывал нужды прояснять вероучение. На Востоке оно существовало как устная традиция, в то время как западные богословы, хотя и изучали труды каппадокийцев, не обращали на нее внимания.
Поиск путей к Свету продолжал в XI в. монах Симеон, известный как Новый Богослов. Возможно, он был одним из величайших византийских мистиков и одним из немногих, кто пытался описать мистический опыт. Некоторое время церковные власти смотрели на него с известным подозрением; он казался им слишком независимой личностью. Хотя он не внес ничего нового в вероучение, горячая искренность его сочинений имела огромное влияние. Он подчеркивал необходимость в самодисциплине. Человек, избравший созерцательную жизнь, должен очищать себя слезами, т. е. истинным покаянием и деятельным обузданием страстей. Он должен стяжать любовь, ибо любовь есть связующее звено между Богом и человеком, непреходящее богатство, в то время как даже божественное озарение само по себе есть, так сказать, временный опыт. Он был знаком с богословской проблемой. «Неужели вы говорите, — спрашивает он, — что нельзя увидеть или познать Того, Кто невидим и непознаваем?» И он дает ответ: «Как вы можете сомневаться? Он Сам, Кто стоит над всем сущим и прежде всех времен, и не сотворен, воплотился и явился мне, и таинственным образом обожил меня, которого Он принял. Если Бог, Который, как ты не сомневаешься, стал Человеком, принял меня, человека, и обожил меня, тогда я, бог по усыновлению, принимаю Того, Кто является Богом по природе». Во многих образах Симеон стремится представить лествицу христианского опыта, соединения с Несоединяемым, что стало возможным через Воплощение Слова. Конец такого опыта — это Свет, не похожий на огонь, который можно воспринимать органами чувств, но Свет вечный, величие и слава вечного блаженства, тот Свет, который преобразует в свет людей, которых освещает, тот Свет, нетварный и невидимый, без начала и причины, но который присущ благодати, через которую проявляет Себя Бог.[203]
Примеру Симеона ревностно последовали на Св. Горе Афон. В монастырях Св. Горы монахи последовательно стремились постичь Свет. В ходе своих поисков они узнали цену телесным упражнениям. Это была древняя традиция. Иоанн Лествичник рекомендовал эти упражнения для дыхания. Память Иисусова, говорил он, должна сочетаться с дыханием, и он говорил так не символически. Через дыхание дух входит в тело, и, владея дыханием, человек может владеть своим телом. Здесь мы подходим близко к психо–физиологической традиции более отдаленных областей Востока, индусской йоге и мусульманскому дхикру. Возможно, что в византийское монашество проникли влияния из подобных восточных источников. По традиции, родиной монашеского созерцания была Св. Гора Синай, которая в силу своего географического положения была в близком соприкосновении с мусульманским миром; возможно, что мусульманская мистика через Персию была подвержена индийским влияниям. В Византии был также более прямой путь через Анатолию. Величайший персидский мистик Джелал ад–Дин ар–Руми в XIII в. прибыл в Конью, древнюю Иконию, где он писал, преподавал и создал секту мевлевов, крутящихся дервишей, которые вращением в танце достигали экстаза. Средства, используемые посвящающими себя созерцательному образу жизни, а также дыхательные упражнения были известны мусульманам–суфиям. Похоже, что существовал устный неофициальный обмен практиками христианских и мусульманских мистиков. Тем не менее, между ними была существенная разница. Индийская и в меньшей степени мусульманская мистика были нацелены на достижение состояния самогипноза, в котором человек может пассивно воспринимать божество. Византийские учителя подчеркивали, что такие упражнения не должны быть самоцелью, иначе они превратятся в бессмысленную и беспомощную самодисциплину.[204]
Первый, кто учил этим методам в Византии в своих произведениях, был монах конца XIII в., известный как Никифор Исихаст. По происхождению он был итальянцем, возможно, калабрийским греком, который прибыл в Константинополь при Михаиле VIII, и энергично сопротивлялся его политике в отношении унии. Поэтому он удалился на Афон, где написал небольшую книгу под названием «О рассуждении и хранении сердца». Это несколько свободная компиляция из отцов Церкви с приложением, в котором рекомендуются определенные психофизические упражнения, которые помогают достичь сосредоточения и отгонять рассеянность. Он настаивал, чтобы ревностные мистики следовали советам духовника, но если такового не находилось, существовали физические средства и положения, которые могли им помочь. Он исходил из того, что тело, душа и дух находятся в единстве, и каждое душевное действие имеет последствия для тела. По его мнению, повторение имени Божия должно сочетаться с ритмическим дыханием. Он утверждал (правда, опасно простым языком), что таким образом Св. Дух может войти через ноздри в сердце. [205] Ему, вероятно, принадлежит и другой трактат, который позднее ошибочно приписывался Симеону Новому Богослову и описывал наилучшее положение для молитвы. Мистик должен сидеть один в углу своей кельи и наклониться вперед, обратя взор к центру своего тела, в районе пупка, и искать место своего сердца. В этом не было ничего принципиально нового. Дыхательные упражнения наверняка имели уже многовековую практику, и положение сосредоточенного молитвенника, сидящего и склонившегося вперед, восходит к глубокой древности.[206] Когда Илия молился на горе Кармил о дожде, «он поверг себя на землю, а лицо его было между коленями».[207] На миниатюре в рукописи «Лествицы» XII в. изображен монах, молящийся в подобной позе, хотя его глаза закрыты и не обращены внутрь.[208] С точки зрения догматики, не было существенной разницы между такой позой и воздеянием рук в молитве или определенными передвижениями во время литургии или церемоний в Священном дворце. Но в среде невежественных монахов упражнения могли занять непропорционально большое место.
К концу XIII в. византийскую религиозную жизнь захлестнула сильная волна мистицизма. Монахи жили почти во всех келлиях Афонской горы; были, однако, церковные деятели, такие как патриарх Афанасий I и Феолепт, митрополит Филадельфийский, которые понимали, что созерцательная жизнь, сопровождаемая умеренными физическими упражнениями, может проводиться и без ухода от мира. Афанасий, который был активным и строгим реформатором монашеской жизни, считал, что созерцание может сочетаться с деятельным творением добрых дел и регулярными монастырскими богослужениями.[209] Движение охватило даже мирян. Биограф Григория Паламы сообщает, что его отец, Константин Палама, присутствовал на заседании сената, но когда император Андроник II неожиданно задал ему вопрос, то он не смог сразу ответить, потому что был слишком глубоко погружен в духовное созерцание. Благочестивый император отнесся к этому без малейшего раздражения и только начал его еще более уважать.[210] Другие византийцы, однако, сочли такое положение чрезмерным. В то время как Империя распадалась на части, слишком многие граждане занимались только заботами о своей душе. Случилось так, что растущее внимание к мистицизму в Византии совпало с возрождением интереса к приложению философии в религии, интереса, который стимулировался переводами работ Фомы Аквинского, сделанными Димитрием Кидонисом. Многие философы стремились избежать ограничений апофатического богословия и последовать более катафатическому западному пути. Раскол представлялся неизбежным.
Разрыв произошел в известной степени неожиданно. Среди многочисленных калабрийцев в Константинополе был один философ по имени Варлаам, который получил образование в Италии. Он прибыл в столицу около 1330 г. и вскоре приобрел репутацию математика, астронома и логика. Иоанн Кантакузин, который тогда был великим доместиком, восхищался им и предоставил ему кафедру философии в университете. Он стал преданным чадом Православной Церкви. Его назначили представителем от греков в полемике с двумя доминиканцами, прибывшими в Константинополь в 1333–1334 гг. В 1339 г. он стоял во главе делегации в Авиньон, к папе Бенедикту XII, которому он в ясных и понятных выражениях объяснил, почему греки не соглашались на унию. По–видимому, он был восторженным последователем Православия, но, к сожалению, имел свои собственные идеи. Предполагают, что в молодости на Западе он изучал работы Уильяма Оккама и был скорее всего под влиянием этой интеллектуальной атмосферы. Против Латинской церкви он полемизировал в терминах тех же номиналистических обвинений, которые выдвигались Оккамом против томизма. Он сочетал эти обвинения с преданностью апофатическому богословию, берущему начало от работ Дионисия Ареопагита, по которому он читал ряд лекций. Особенно не любил он томизм. «Фома, — говорил он, — и те, кто следуют его доводам, верят, что не может быть ничего, что бы не было доступно рассудку. Но мы полагаем, что такого мнения может придерживаться только душа, одержимая гордым и злобным бесом, ибо почти все божественные вещи лежат за пределами человеческого знания». Когда латиняне, утверждал он, провозглашают, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына, то они повинны в самонадеянной гордости. Если Бог непознаваем, то как могут они претендовать на знание таких вещей? Но Варлаам простирал свои апофатические взгляды слишком далеко. Он заявлял, что греки были почти так же виновны, утверждая, что Св. Дух исходит только от Отца, но в их пользу говорил по меньшей мере Символ веры, принятый Вселенскими соборами.