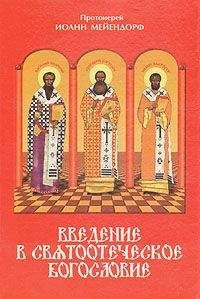В. Вейдле - Зимнее солнце
«Чайку» — то я, впрочем, как раз и не видел никогда (да и вытканную только раз). Полагаю, что и не пленила бы меня, довольно бодрого юнца, эта слишком уж муслиновая (думаю о дамских рукавах раструбом вверх), иронически–поэтическая, а все‑таки и всерьез рыдательная пьеса, чью поэзию словно вдвоем породили чахоткой скошенный Надсон и, будетлянии, сравнительно с ним, но уже успевший выброситься из окна, Бальмонт. Зато «Дядю Ваню» видел я, единственный, правда, раз, и доктор Астров покорил меня, как ему покорять и полагалось. И совсем уж навзрыд был я покорен «Тремя сестрами», виденными мной три раза; как и три раза (через большие промежутки времени) плохо я засыпал воображая, как опадает розовый цвет с проданных на сруб деревьев «Вишневого сада». Отчего зто, еще и теперь спрашиваю я себя, читаешь «в Москву, в Москву…», или «мы отдохнем, мы увидим небо в алмазах», и разве что криво усмехнешься, волнения не испытав ровно никакого, а когда на той сцене шли «Три сестры» или «Дядя Ваня» было совсем не так. В чтении, и барона Тузеибаха не очень тебе становится жалко: рассуждения‑то ведь его с самого начала были жалкие. Даже подполковник Вершинин и Маша, — как же им было не расстаться: ведь знали, ничего неожиданного (кроме дня и часа) в этом не было. А когда ты все это видел своими глазами, голоса всех этих людей слышал, все было по–другому: всему‑то ты верил, отдавался весь всему. И ведь это совсем не общее правило. Великий драматург тебя и в чтении захватит, не меньше, а порой и больше, чем на сцене. Чехову же понадобилось дополнение, не любой, а именно этой сцены, понадобился театр, чьи руководители — но и не одни они, а вся труппа — единодушно поняла, именно так, как она поняла, чехов ских людей, их чувства, их действия, их бездействие. И этим найденным в них, или в них вложенным чувствам, в себе обрела со–чувствие.
Сыгранность, которую этот театр всегда искал и всегда находил лучше всех других, достигла здесь, поэтому, предельного оовершенства. Пусть лучшие оставались лучшими, но все другие не тянули их вниз и не приподымали их еще выше, по контрасту с собой, а силою «ансамбля» возвышались все вместе и становились им равны. Москвин играл ничтожную роль ничтожного офицерика в «Трех сестрах», а я тупенькое лицо офицерика этого помню до сих пор. Лилина, умилительно милой умевшая быть, играла, в той же пьесе — несравненно хорошо играла — пренесносную жену брата трех сестер. И детская коляска, Андреем возимая, не зря скрипела, и чебутыкинская «та–ра–ра–бумбня, сижу на тумбе я» пронзала наши сердца. Ни одна режиссерская выдумка не казалась трюком; все отсебятины постановки откровениями были для нас, изъявлениями чеховских глубин. В авторской ремарке, там где Вершинин прощается с Машей, сказано, что обнимает ои ее и «быстро уходит». На сцене, Отаинславский, не дойдя до двери, оборачивался к Маше, глядел на нее, и Книппер отвечала его взгляду… Минута… Казалось, что ей нет конца. В зале — платки у глаз, едва сдерживаемые рыданья. Могу и сейчас перенестись в этот миг, увидеть их обоих, могу заплакать. Окажут: зкие сеитимеиты. Отвечу словами иронически острого Фридриха Шлегеля: «Скучновато совершенство и мастерство, когда чувства в них нет».
Как «Три сестры», так, еще разительней, «Вишневый сад». Студеитик‑то ведь — дурачок (быть может потому я и забыл, или хочу забыть, кто его играл; чуть ли не Качалов). И к чему Епиходов, Шарлотта Ивановна, Яша? Зачем Раневская с самого начала нажимает на педаль; правда, на левую педаль. Оскомину разве не набивают биллиардные реплики Гаева, — вариант тарарабумбии, точно так же подчеркивающий безнадежность финала. Но когда все двери усадебного дома заперты снаружи, и одинокий топор отучит вдалеке, и медленно входит Фиро (все это здесь предусмотрено Чеховым — научился! — включая возраст Фирса: 87 лет) и бормочет «забыли про меня», и ложится на диван, и лежит неподвижно… Ах ты, Господи, вот я вое это пишу, и недоволен чем‑то, усмехнуться готов; а когда входил Арт&м (старый школьный учитель, которого некогда подыскали для этой роли) не смеялся никто; бормотанье его слушали, и тот символический звук с такою груотью, что с ней и иа улицу выходили, и домой ехали, и на полночи ее хватало.
«Символический»! Это при чтении так думаешь. А ведь как обманчиво это слово! Если символ жив, или способен ожить, нет больие символа. «Все преходящее есть только притча», или, как обычно переводят, «есть только символ.» Но если мы в преходящем живем, если оно — наша жизнь, а жизнь зто оимвол и есть, тогда надо вычеркнуть «только», а потом, до предела мысли подумав, и «символ». В те два–три часа, покуда Раневскою была Кииппер, Гаевым Станиславский, Впиходовым Москвин, Лилина — Шарлоттой Ивановной, когда все было согласовано, пригнано одно к другому до последних мелочей, — не было больше актеров, сцеиы, театра…
Или, кто знает? Моиет быть это настоящий театр и есть?
«Где тонко, там и рвется»
«Мможешь лш ты угадать ммою ммысль?», рычал, шли вернее мычал Леонидов, прежде, чем размозжить голову броизовым преоо–папье мужу своей любовницы. Уже по этому финалу можно суджть о качестве «мысли», как и о качестве пьесы. Сургучевская («Осенние скрипки» — бедный, бедный Верлеш!) была не лучше этой, леонидандреевской. Нет, нет, не все было хорошо — и даже выносимо — в Художественном театре. Есть произведения, которых не спасает никакое исполнение. Леонидов был иа редкость хороний актер; Кииппер прекрасно играла начинающую стареть героиню «Осенних скрипок», но скрипки‑то все‑таки фальшивили, но "№сль» и «ммыоль» все‑таки обличали мыслительную неспособность автора. Однако, Тургенева, например, хоть и далеко не столь созвучного им, как Чехов, актеры этого театра не только играли превосходно, а еще и так, что никакого конфуза не получалось, — как получается ои в тех случаях, когда умницы хвалят дурака или изображают дураков.
Оттого и сердишьоя, бывало, иа них, что приучшли они тебя к уровню совершенства, с которыми сравниться не мог никакой другой театр. Слава его была им полиостью заолужена, но не тем, а наперекор тому, чем ои ее стремился заслужжть. Незачем было, например, перед постановкой «Юлия Цезаря», всем его участникам ездить в Рим, осматривать Форум, Капитолий, Палатии, которых Шекспир в глаза не видел. Незачем было так упорно проявлять — в самом характере постановок — сожаление о том, что опиной к публике поворачиваться может актер лишь изредка, и что четвертой стены к «павильону» никак не приставииь. Незачем было — в «Студии» — даже и рампу уничтожать, сцену и жизнь сближать так прямолинейно, простодушно печалуясь о том, что их нельзя одну с другой перемешать. Мейерхольд это все куда лучше понимал, но актеры большого калибра, с тех пор, как он, сам превосходный актер, от Станиславского ушел, не часто попадали в его распоряжение. Тогда как в распоряжении его бывшего хозяина, гениального актера, их было сколько угодшо, и находить ош их умел, как никто другой. Правда, был у него ш Немирович, никакой не актер, человек сомнительного вкуса и очень низкого литературного образования; но главное в театре (после драматурга) это ведь все–таки актер. Немирович, а о ним и Станиславский, по–видимому, думали, что актер что‑то копирует, «воспроизводит»; но ведь предмет его «копии» — Гамлет или Хлестаков — ему в опыте не дан, а изображать невидимое или неувиденное — дело не копировщика, дело художника. Несмотря на не совсем скромно, или не очень умно выбранное название их театра, актеры его оставались подлинными художниками и мастерами. Тургеневские обе постановки были еще одним свидетельством тому.
Тургенев как будто и сам театру своему большого значения не придавал. «Месяц в деревне», однако, — весьма тонко разработанная концертная сюита, и очеиь отановится грустной ее главная тема под конец, хотя неискушенный читатель пожалуй и сочтет развязку эту чуть ли не водевильной. Видел я, однако, «Месяц в деревне» только раз (в превосходных декорациях и костюмах Добужинского) и даже распределение ролей забыл, не говоря уже о деталях игры и постановки. Помню только, что все было «как нужно», все оттеики соблюдены, ничего не смазано, ничего не переподчеркнуто. Для малого оркестра вещь, без тромбонов и бас–туб; но и кларнет, которому, в партитуре этого спектакля, шестнадцать тактов (предположим) было уделено, партию свою сыграл не хуже, чем первая скрипка.
Зато сборный тургеневский спектакль — акт из «Нахлебника», «Где тонко, там и рвется», «Провинциалка» — видел я два раза, и отчетливо помню последнюю из зтих пьес (то есть как сыграна она была), а «Где тонко» — тут был случай оообый, он все прочие воспоминания затмил…
«Провинциалка», разумеется, пустячок. Но когда графа играл Станиславский, а Дарью Ивановну — Лжлииа, восхищал этот пуотячок, переставал быть пустячком. Да и есть в нем нечто, возможным делающее такое перерожденье: женственные, а не женские только, хитрости Дарьи Ивановны нарисованы рукою мастера. По его указанию, ей двадцать девять лет, графу — сорок девять. Лжлииой, вероятно, было тогда под пятьдесят, за сорок наверняка; Станиславскому — больше, а гримом ои еще подбавил себе лет, чтобы жена его могла на сцене казатьоя моложе. Она и казалась. Играла восхитительно.