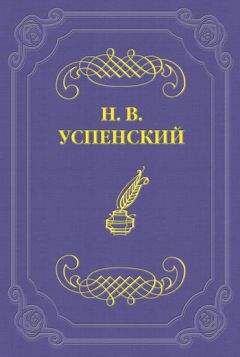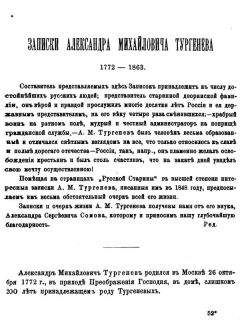Владимир Крупин - Время горящей спички (сборник)
Девочка не допела, вдруг расплакалась и выскочила за дверь.
Мальчики смущенно переминались:
— У нее длинная песня, она еще поет о розах, которые Христос раздал детям, а Себе оставил шипы от роз…
Ушли деточки. Ушли в лунную ночь, скрипя валеночками по рождественскому снегу. А лампадка красная в углу, будто звездочка, сошедшая с небес, пришла и остановилась у святых икон.
Первая исповедь
В Сережином классе у многих ребят не было отцов. То есть они были живы, но жили отдельно. Кто сидел в тюрьме, кто куда-то уехал и не оставил адреса. Сережин отец приходил раз в месяц и приносил подарки. Достанет игрушку, они сыграют в шашки, и он скоро уходит. Даже чаю не попьет. Мама и бабушка в это время сидели на кухне. В последнее время отец стал давать Сереже и деньги. Бабушка ворчала: «Ишь как ловко устроился: от сына откупается».
Но Сережа любил отца. И мама, это чувствовалось, тоже его любила, хотя никогда не просила остаться. Деньги от отца Сережи не брала. А ему на что: мороженое ему и так покупали.
— Давай деньги в церковь отнесем, — предложил Сережа. Они с мамой любили ходить в церковь.
— Давай, — сразу согласилась мама. — И тебе пора наконец на исповедь.
— Какие у него грехи? — вмешалась бабушка. — Куда ты его потащишь!
— А пойдем вместе, бабушка! — сказал Сережа.
— Я век прожила и уж как-нибудь проживу, — отвечала бабушка. — Я честно работала, не воровала, вино не пила, не курила — какая мне исповедь?
Мама только вздохнула. Вечером они с Сережей прочли, кроме вечерних молитв, акафист Ангелу-хранителю, а утром встали пораньше, ничего не ели, не пили и пошли в церковь.
— А что батюшке говорить? — волновался Сережа.
— Что спросит, то и говорить. Сам же знаешь, в чем грешен. С бабушкой споришь…
— Она больше меня спорщица! — воскликнул Сережа. — Она вообще так зря ругается!
— Вот уже и осуждаешь, — заметила мама. — Даже если бабушка и не права, нельзя осуждать. Она же пожилой человек. Ты доживешь до ее лет, еще неизвестно, каким будешь.
В церкви они купили свечи и пошли в правый придел, где вскоре началось исповедование. Вначале отец Виктор читал общую молитву и строго спрашивал, лечились ли у экстрасенсов, ходили ли на проповеди приезжих гастролеров, различных сектантов… Потом вновь читал молитву, говоря время от времени: «Назовите свои имена». И Сережа вместе со всеми торопливо, чтоб успеть, говорил: «Сергей».
Впереди Сережи стояла девочка его лет, может чуть постарше. В руках она держала листочек из тетради, на котором было крупно написано: «Мои грехи». Конечно, подглядывать было нехорошо, но Сережа невольно прочел, успокаивая себя тем, что это как будто обмен опытом. Было написано на листке: «Ленилась идти в детсад за братом. Ленилась мыть посуду. Ленилась учить уроки. В пятницу выпила молока».
Сережа прочел и охнул. Нет, у него грехи были покруче. С уроков с ребятами в кино убегал. Кино было взрослое и неприличное. А посуда? Сережа не то чтоб ленится, но тянет время. Он знает, что бабушка заставляет его, а потом сама вымоет. А вчера его посылали в магазин, а он сказал, что надо учить уроки, а сам болтал целый час по телефону с Юлей, всех учителей просмеяли…
Ну вот и Сережина мама пошла к батюшке. Видно, что плачет. Батюшка укрывает ее склоненную голову епитрахилью, крестит сверху и отпускает. Сережа собрался с духом, перекрестился и подошел к батюшке. Когда тот попросил говорить о своих грехах, то у Сережи вдруг вырвалось само собой:
— Батюшка, а как молиться, чтобы папа стал с нами все время жить?
— Молись, милое дитятко, молись своим сердечком. Господь даст по вере и молитвам.
И еще долго говорил батюшка с Сережей.
А потом было причастие. И эти торжественные слова «Причащается раб Божий Сергей…» — а в это время хор пел: «Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите». Сережа причастился, поцеловал чашу, со скрещенными руками подошел к столику, где ласковая старушка подала ему крохотный серебряный ковшик со сладкой водичкой и мягкую просфору.
Дома радостный Сережа ворвался в комнату к бабушке и закричал:
— Бабушка! Ты бы знала, сколько у меня грехов! А ты говорила! Не веришь? А вот пойдем, пойдем вместе в следующий раз.
А вечером вдруг позвонил папа. И Сережа долго говорил с ним. А в конце он сказал:
— Папа, а ведь это неинтересно — по телефону говорить. Давай без телефона. Мне, папа, денег не надо и игрушек не надо. Ты так просто приходи. Придешь?
— Приду, — сказал отец.
— Нет, ты совсем приходи, — сказал Сережа.
Отец промолчал.
Вечером Сережа долго молился.
Женя Касаткин
В седьмом классе к нам пришел новый ученик Женя Касаткин. Они с матерью жили в деревне и приехали в село, чтобы вылечить Женю. Но болезнь его — врожденный порок сердца — была неизлечимой, и он умер от нее на следующий год, в мае.
Круглые пятерки стояли в дневнике Жени, только по физкультуре был прочерк, и хотя по болезни он не учился по две-три недели, все равно он знал любой урок лучше нас. Мне так вообще было хорошо, я сидел с ним на одной парте. Мы подружились. Дружба наша была неровна — он не мог угнаться за нами, но во всем остальном опережал. Авторучки были тогда редкостью, он первый изобрел самодельную. Брал тонкую-тонкую проволочку, накручивал ее на иголку и полученную пружинку прикреплял снизу к перышку. Если таких пружинок было побольше, то ручка зараз набирала столько чернил, что писала целый урок. Такое вечное перо он подарил и мне. А я спросил:
— Как называется твоя болезнь?
Он сказал. Я написал на промокашке: «Окорок сердца». Так мне это показалось остроумно, что я не заметил его обиды.
Пришла весна. Когда вода в ручье за околицей вошла в берега, мы стали ходить на него колоть усачей. Усачи — небольшие рыбки — жили под камешками. Как-то раз я позвал Женю. Он обрадовался. Матери его дома не было, и Женя, глядя на меня, пошел босиком. Земля уже прогрелась, но вода в ручье была сильно холодная, ручей бежал из хвойного леса, и на дне, особенно под обрывами, еще лежал шершавый лед. Вилка была одна на двоих.
Чтобы выхвалиться перед Женькой своей ловкостью, я полез первым. Нужно было большое терпение, чтобы подойти, не спугнув, сзади. Усачи стояли головами против течения. Как назло, у меня ничего не получалось, мешала дурацкая торопливость.
Женька зашел вперед, выследил усача и аккуратно наколол его на вилку, толстенького, чуть не с палец. А я вылез на берег и побегал, чтоб отогреть ноги. У Женьки получалось гораздо лучше, он все брел и брел по ледяной воде, осторожно поднимая плоские камни. Банка наполнялась.
Солнце снизилось, стало холодно. Я даже на берегу замерз, а каково было ему, шедшему по колени в воде. Наконец и он вылез на берег.
— Ты побегай, — посоветовал я. — Согреешься.
Но как же он мог побегать — с больным-то сердцем? Мне бы ему ноги растереть. Да в конце концов, хотя бы матери его сказать, что он замерз, но он не велел говорить, где мы были, всех усачей отдал мне. Дрожал от холода, но был очень доволен, что не отстал от меня.
Его снова положили в больницу.
Так как он часто там лежал, то я и не подумал, что на этот раз из-за нашей рыбалки.
Мы бежали на луга за диким луком и по дороге забежали в больницу. Женька стоял в окне, мы кричали, принести ли ему дикого лука. Он написал на бумажке и приложил к стеклу: «Спасибо. У меня все есть».
— Купаться уже начали! — кричали мы. — На Поповском озере.
Он улыбался и кивал головой. Мы отвалились от подоконника и помчались. От ворот я оглянулся — он стоял в окне в белой рубахе и смотрел вслед.
Раз не надо, то мы и не принесли ему дикого лука. На другой день ходили есть сивериху — сосновую кашку, еще через день — жечь траву на Красную гору, потом снова бегали за диким луком, но он уже зачерствел.
На четвертый день, на первой перемене, учительница вошла в класс и сказала:
— Одевайтесь, уроков не будет. Касаткин умер.
И все посмотрели на мою парту. Собрали деньги. Немного, но добавила учительница. Без очереди купили в школьном буфете булок, сложили в два портфеля и пошли.
В доме, в передней, стоял гроб. Женькина мать, увидев нас, запричитала. Другая женщина, как оказалось, сестра матери, стала объяснять учительнице, что вскрытия не делали, и так ясно, что отмучился.
Ослепленные переходом от солнечного дня к темноте, да еще и окна были завешены, мы столпились у гроба.
— Побудьте, милые, — говорила мать, — я вас никого не знаю, все Женечка о вас рассказывал, побудьте с ним, милые. Не бойтесь…
Не помню его лица. Только белую пелену и бумажные цветы. Цветы эти сестра матери снимала с божницы и укладывала вдоль доски. Это теперь я понимаю, Женя был красивый. Темные волосы, высокий лоб, тонкие пальцы на руках, покрасневшие тогда в ледяной воде. Голос у него был тихим, привыкшим к боли.