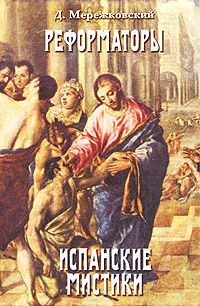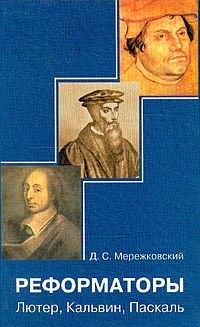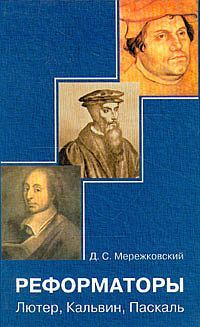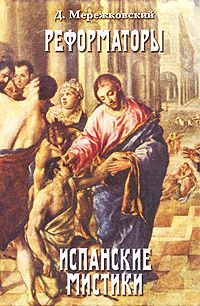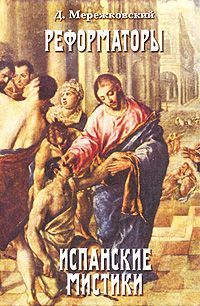Дмитрий Мережковский - Кальвин
Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное (Матфей, 18:3) —
что это значит, меньше всего понял Кальвин.
В 1530 году появилась книга Коперника о круговращении Земли. За тридцать лет Кальвин не удосужился ее прочесть. «Небо вокруг Земли вращается», — пишет он в последнем издании, «Установления христианства».[438] В звездах на небе так же ничего не понял, как в детях на земле.
Чтобы почувствовать преобладание «металлического», мертвого, над живым, «растительным», в Кальвине, стоит только заглянуть в главную и, в сущности, единственную книгу его, «Установление христианства».
«Я в моих писаниях обладаю сжатою краткостью и остаюсь всегда твердым в выражении того, что хочу выразить», — хвалится он (en mes écrits j'ai une brièveté restreinte et demeure toujours bien ferme et arrêté à traiter le point que j'ai une fois pris en mains).[439] «Я, по моей природе, довольно склонен к поэзии (je suis d'un naturel assez porte a la poesie)».[440] В этом он ошибается. Но у него есть то, что, может быть, не хуже красоты и не меньше поэзии, — сила. «Царственная краткость» (imperatoria brevitas) — главный признак этой силы. Та же красота у него, как у Левиафана чудовища:
Не умолчу о… силе его и красоте… Крепкие щиты его — великолепие…
один с другим, лежат плотно, не раздвигаются… На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас… Нет на земле подобного ему… Он — царь над всеми сынами гордости (Иов, 41, 4 — 26).
Но вся эта красота и сила Кальвина напоминают иногда страшный «металлический сон» великого «городского поэта» наших дней:
Сон мой был полон чудес,
потому что, по прихоти странной,
я изгнал из него навсегда
все живое, растущее,
и упивался лишь камня, металла, воды
опьяняющим однообразием…
И все — даже черный цвет —
было ярким, сверкающим, радужным;
и воды заключали славу свою
в луче, затвердевшем в кристалл…
И не было ни одного светила,
ни солнца, даже на краю небес,
чтобы эти чудеса озарять,
лишь внутренним светом сиявшие,
И над всем их движением царила, —
новизна ужасающая, —
все для зренья, для слуха ничто, —
тишина бесконечная.
Бодлер. «Парижский сон». Цветы зла.
(Ch. Baudelaire. Fleurs du mal, СII. Rêve parisien).
«Вечно-женственного» Кальвин, «умственник» так же не понимает, как «Вечно-детского».
Долго не хочет верить, что гнусный, рыжий, горбун, восьмидесятилетний Фарель, женился на восемнадцатилетней девушке, а когда, наконец, поверил, то «онемел от удивления». «Года еще не прошло, как он мне сам говорил, что надо быть дураком, чтобы жениться в такой старости на молоденькой девушке».[441] А года через два Кальвин узнал, что невестка его, жена брата Антуана, десять лет бесчестила дом его прелюбодеянием с таким гнусным горбуном, как Фарель. В городе знали об этом все, кроме Кальвина. Когда же, наконец, узнал и он, застав любовников на месте преступления, то онемел от удивления, еще большего, чем при известии о женитьбе Фареля.[442] Может быть, на одно мгновение открылись у него глаза, и он вдруг увидел, как при блеске молнии, целую половину мира, которой никогда раньше не видел. Но молния потухла, и он снова ослеп, — впрочем, не совсем, потому что каким-то вторым, «ночным зрением», видел всегда и ту, для его «дневного зрения», невидимую, половину мира, и еще потому, что он — слепой, отвлеченный «интеллигент», «умственник», только в одной половине существа своего, а в другой — великий «реалист» — деятель.
«Должно учиться не мыслить, а жить». «Если тех, кто слушает меня, я не учу действовать, то я — богохульник» (il s'agit d'apprendre nоn à déviser, mais à vivre — comment. II Timoth. 3, 16: «Si je ne procure pas l'édification à ceux qui m'écoutent, je suis sacrilège)».[443] Только для отвлеченного «умственника» вся плоть мира ничтожна или презренна, а для жизненного деятеля та же плоть свята.
Кальвин издает строжайшие законы о рыночных ценах на хлеб, дерево, уголь, овощи, мясо и рыбу; и о том, чтобы все испорченные припасы немедленно выкидывались в Рону; и о проведении водосточных труб. Требует с церковной кафедры очистки «таких мест, о каких говорить непристойно» (de la propreté des latrines et de ces choses même dont il n'est pas honeste de parler).[444] Строит великолепные больницы, странноприимные дома и богадельни. Основывает шерстяной и шелковый промысел — будущее богатство Женевы.
«Меньше всего мы видим то, что у нас под носом, — пишет он Магистрату. — Так как почти все окна в Женеве без перил и ставен, то маленькие дети, то и дело падая из окон, разбиваются до смерти». И, по настоянию Кальвина, объявляется торжественно, под трубный звук, Великим Глашатаем новый закон, чтобы все окна женевских домов снабжены были перилами и ставнями.[445] Может быть, в эту минуту, маленькие дети кажутся ему уже не «маленькими кучками грязи», а чистейшим и драгоценнейшим из всего, что есть в мире.
После невылазной грязи и удушливого смрада городов — особенно таких больших, древних и почтенных, как Рим, Лондон, Париж, — путник входил в новую, чистую Женеву, в самом деле, как в «Царство Божие», и запах снега, веявший от Мон-Бланских ледников, был для него как бы запахом этого Царства. Город будущего, где люди заживут впервые не по-свински, в собственном смраде задыхаясь, а в чистоте, — вот что такое город Кальвина, Св. Женева.
Люди пятнадцать веков, как забыли, что значит «мыться»; Кальвин им это напомнил, и впервые снова «омылись» они — «крестились», потому что первый и глубокий смысл этого слова именно таков: «креститься» значит — «омыться», «очиститься».
43«Там, где Бог является людям во всем величии своем, — самые гордые падают во прах, объятые смертным ужасом», — учит Кальвин. «Мы должны умереть, потому что увидели Бога», — говорили чада Израиля.[446]
Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем; не ко тьме,
мраку и буре; не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
ибо не могли они выдержать того, что было им заповедуемо: «Если и зверь прикоснется к Горе, да будет побит камнями… (или поражен стрелою)». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я
в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога
Живого, к Небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему Собору и Церкви Первенцев, написанных на небесах,
и ко Судии всех, Богу (Евреям, 12:18–23).
Таков религиозный опыт Кальвина: Новым Заветом начинает он, а кончает Ветхим. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не прейдет из закона» (Матфей, 5:17–18). Что это значит, Кальвин понял, как никто. «Все, что людям нужно знать для совершенной жизни, Господь заключил в Законе так, что им прибавлять к нему ничего не остается». «Будем же во всем неподвижны (tenons-nous cois)».[447]
Maran atha.
Господь грядет, —
в этих двух словах бьется вечное сердце христианства; перестанет биться — христианство умрет. Кальвин меньше, чем кто-нибудь, понял, что это значит. Вот почему Апокалипсис для него бессмыслица. В «Царстве Божьем» у него все, от водосточных труб до пыточных орудий, устроено так, как будто мир вечен, и Господь никогда не придет. Это тем удивительней, что высшее для него сияние святости — в кровавом венце Исповедников, и что пастырь их — он сам.[448] «Лучше вам сто раз умереть, чем покинуть то место, на котором вас поставил Господь. Но как мне стыдно, что нет у меня для вас ничего, кроме слов! О, насколько бы лучше мне с вами умереть, чем вас пережить и оплакивать! Но я знаю одно—что нельзя больше страдать, чем я за вас страдаю».[449]
Мучим был за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем,
и ранами Его мы исцелились (Исайя, 53:5), —
этого никто не мог бы понять лучше Кальвина. Пристальнее, чем кто-либо, заглянул он в лицо Распятого и увидел в Нем брата: «Вот Он, Сын Божий, — наш Брат».[450] «Должен был Иисус в агонии бороться, лицом к лицу, со всеми силами ада и с ужасом вечной смерти, погибели вечной для Себя самого: иначе жертва Его за нас была бы неполной. Наше примирение с Богом могло совершиться только Его сошествием в ад».[451]
К Сыну Божию — Брату Человеческому — никто не подходил ближе Кальвина. Но вот подошел, заглянул в лицо Его, и прошел мимо — мимо Сына к Отцу. Этого он, конечно, сам не знает и, если бы это сказали ему, — не поверил бы, а если бы поверил, то сошел бы с ума или умер бы от ужаса.
В этом — нездешний, нечеловеческий, сверхъестественный, чудовищный грех Кальвина. Но, может быть, этот грех не вменится ему, потому что не он сам его совершил, а Кто-то — за него; не он сам пожертвовал собой, а Кто-то пожертвовал им для будущего, всемирно-исторического действия Трех.