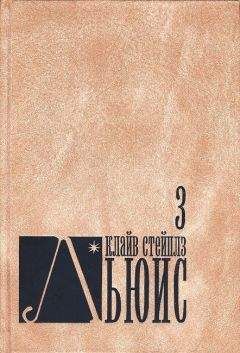Гилберт Кийт Честертон - Писатель в газете
Дело в том, что взгляды на нравственность изменились, и, мне кажется, не в лучшую сторону. Нравственность связана для нас со слащавым оптимизмом, с красивостью. Теперь нравственная книга — это книга о нравственных людях. Но раньше считали как раз наоборот: нравственная книга — это книга о безнравственных людях. Нравственная книга кишела сценами, знакомыми нам по гравюрам Хогарта; как дешевые картинки, скажем «Страшный суд», она показывала нам клятвопреступников и убийц. Это изменение во взглядах на нравственность не лишено философских оснований. Бесприютный скепсис нашего времени довел нас до ощущения, что нравственность — дело вкуса, психологическая причуда. Если добро существует только в сознании, тот, кто желает воспеть добро, естественно, преувеличит его количество в том или ином сознании или насует в книгу много хороших людей. Каждый рассказ о плохом человеке докажет нам, что добродетель призрачна. Каждая книга, которая допускает зло, докажет нереальность добра. В наши дни считают, что если в сердце человека — зло, на свете нет места ничему хорошему. Раньше считали, что, если даже человек злее злого, хорошее остается — добро остается. Добродетель существовала сама по себе, а человек подымался до нее или падал с ее высот. Конечно, это можно доказать и на примере возвышения, и на примере падения. Если Том Джонс преступал законы нравственности, тем хуже для Тома Джонса. В отличие от современных меланхоликов Филдинг не считал, что каждый грех его героя разрушает чары или, как сказали бы теперь, фикцию нравственности. Люди говорили, что грешник «преступает закон»; но и закон не оставлял его в покое. То, что современные люди называют испорченностью и свободой Филдинга, — это строгость, нравственная суровость. Он не считал бы, что служит нравственности, если бы писал книги только о хороших людях. Честь велит нам говорить правду о потрясающей борьбе человеческой души. Если в книге нет плохих людей, плоха книга.
Твердые понятия о добре, не зависящем ни от слабости человеческой, ни от человеческих ошибок, мы найдем в самых легкомысленных, самых свободных книгах старой английской литературы. Конечно, мало назвать Шекспира великим моралистом; но в этом отношении он типичный моралист. И о добре и о зле он говорит в этом, старом смысле. Добро — это добро, даже если никто ему не служит. Зло — это зло, даже если никто не осуждает его.
ОКСФОРД СО СТОРОНЫ
Не так давно мне довелось защищать загнанных изгоев, епископов, но до этой недели я не знал, как тяжела их участь. Епископ Бирмингемский, выступая в палате лордов, вполне разумно назвал Оксфорд и Кембридж игорными площадками для богатых. Казалось бы, англиканский епископ знаком хоть немного с английскими университетами и если пристрастен, то в их пользу. Но, как я уже говорил, пора обуздать наконец зарвавшихся бунтарей–епископов. Автор статьи в одной из наших газет почувствовал, что бремя этого долга легло на него. Его слова так просты и прекрасны, что я приведу их:
«Д–р Гор унизил свой сан, когда назвал наши древние университеты игорной площадкой для праздных и богатых. Прежде всего, богатые там трудятся. Существуют на свете праздные богачи, но существуют и праздные бедняки. Сыновья зажиточных знатных семейств, обучаясь в университете, хранят лучшие академические традиции».
Пока что все хорошо. Этот принцип лежит в основе многих наших действий. Мы не попытались дать власть лучшим; что ж, убедим себя, что лучшие — те, у кого власть. Безумные французы или ирландцы хотят воплотить идеал. Нам выпал высший (и более легкий) жребий — мы берем то, что есть, и называем идеалом. Сперва университеты отдают богатым; потом богатые заводят там свои традиции; потом хранят, а мы их за это хвалим. Просто и мило. Но автор статьи, обличающий д–ра Гора с высокого трона газеты, идет дальше. «Особенно ценно, — пишет он, — что в университетах учатся вместе и те, чей жизненный путь обеспечен, и те, кому придется пробивать дорогу своими силами. И тем и другим это дает немало. С одной стороны, кастовая замкнутость сменяется свободным соревнованием сословий; с другой стороны, исчезают предубеждения, стираются острые углы». Это бы я еще вынес. Но конец меня поразил: «Достаточно напомнить читателю о лорде Милнере, лорде Керзоне и м–ре Асквите».
Эти имена привели меня в замешательство. Все остальное мне ясно. Итак, социальная замкнутость аристократов сменяется в Оксфорде и Кембридже свободным соревнованием сословий. Там вовсю соревнуются кочегары, клерки, матросы, приказчики, бродяги — словом, все те, кто составляет Англию, и соревнование так яростно, что никакая замкнутость не устоит перед ним. Не знаю, проверены ли факты, но логика безупречна. Одного я не понимаю: почему это впечатляющее зрелище должно напомнить мне о лорде Милнере, лорде Керзоне и нынешнем министре финансов? При чем они тут? Кто такой лорд Керзон — простой и грубый бедняк, утративший предрассудки, или вельможа, утративший гордыню? Назвать лорда Милнера плодом оксфордской культуры по меньшей мере нечестно. Зачем отнимать успех у немецких университетов? Английские аристократы не без греха, но на лорда Милнера они не похожи. А что иллюстрирует м–р Асквит: опростившийся ли он богач или обточившийся бедняк, — я просто не знаю.
Надо бы упомянуть одну непритязательную истину. Вот она: ни один из этих почтенных людей никогда не был беден в том смысле, в каком обычно понимают бедность почти все англичане. В Оксфорде нет бедняков в том смысле этого слова, в каком бедны многие люди, которых мы видим на улице. Если автор статьи называет бедным кого–то из этой триады, значит, он просто не понимает проблемы. В этой связи мне вспоминаются стихи нашего великого сатирика сэра У. Ш. Гилберта, чьи углы (весьма острые) не обточились, боюсь, в старом английском университете. Читатель вспомнит, что, рассказав об ухаживаниях двух герцогов за прекрасной героиней, поэт замечает:
А третий был простой барон.
Рассудку вопреки,
Забыв, что низок родом, он
Искал ее руки.
Быть может, в этих стихах есть намек и на английские университеты и на свободную борьбу сословий:
Он был красив, умен и смел,
Прекрасно образован.
Как жаль, что низменный удел
Безумцу уготован! [84]
Должно быть, именно такая пропасть отделяет лорда Керзона от лорда Милнера. Боюсь, она покажется едва заметной трещиной, если мы увидим бездну, отделяющую их обоих от народа нашей страны.
Епископ Бирмингемский совершенно прав. Я уверен, что у него и в мыслях не было злого презрения к кладезям английской учености — не знаю, как насчет учености, но старинной английской прелести в них хоть отбавляй. Английский университет именно игорная площадка для правящего класса. Тут ничего плохого нет; может быть, это хорошо. Если существует правящий класс, надо же ему где–то играть. Я предпочитаю, чтобы мной правили люди, которые играть умеют. Раз уж нам положено быть под властью богатых, пусть они будут хоть в меру благодушными и вежливыми. А если чувствительного журналиста шокирует само определение, я могу дать другое, более точное. Оксфорд — это место, где делают людьми тех, кто без этого мог бы стать специалистом или тираном.
Смешно и говорить о том, что в Оксфорде аристократ встречает все сословия. Но наверное он встречает там больше разных людей, чем встретил бы при строго аристократической системе домашних учителей и маленьких закрытых школ. Если уж нам, англичанам, суждено иметь аристократов, мы предпочитаем приятных. Надо сказать, этого мы добились — вероятно, одни на свете. И ничего бы тут не было плохого, если бы только мы этим не хвастались. Можно вынести Оксфорд, но не статью в газете.
Когда относительно бедный человек «обтачивает в Оксфорде острые углы» (то есть теряет, насколько я понимаю, свою свободу), он получает что–то взамен. Признаюсь, мне трудно представить себе большую гадость, чем обтачивание углов. Сохранить их хочется всякому, кто не взял за образец Шалтая–Болтая. Собственно говоря, теряя углы, мы теряем свою, неповторимую форму. Изысканная подлость, которая отравляет и ослабляет нашу страну, с особенной ясностью проявляется в стремлении обточить тех, кто победнее. В переводе на вечный, обычный язык это противно чувству справедливости, поверяющему все установления.
Легкий и самодовольный тон не подходит для разговора о тончайших достоинствах и тягчайших пороках наших университетов. Хорошему сыну нелегко знать, что мать его при смерти, но вряд ли он будет твердить, что она «прекрасно поживает». Можно не трогать два древнейших университета. Можно разнести их вдребезги. Можно изменить. Но в любом из этих случаев слово епископа Гора остается правдой. И разрушать их, и менять, и хранить надо отнюдь не потому, что они — университеты. Их можно оставить именно как игорные площадки, питомники беспечного досуга, а не тяжкого труда. Я не скажу, что это глупо; мне это даже нравится. Игра — прекрасное занятие, едва ли не лучшее на свете. Я могу разумно доказать, что игра — цель нашей жизни. Земля — огород [85], небо — игорная площадка. Быть может, высшая радость души, конечное благо — то спокойное неведение, которое позволяет играть, как в мяч, в Землю и звезды. Для святого мироздание — прекрасная шутка; значит, мы вправе считать шуткой университет. Как бы то ни было, наши правящие классы обратили его в игру. Правда, чаще всего они забывают обзавестись святостью, необходимой для столь великой легкости.