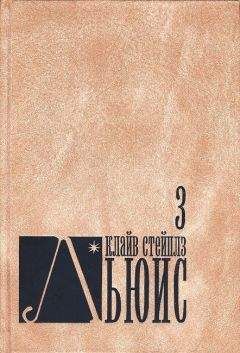Гилберт Кийт Честертон - Писатель в газете
Делается это просто и занятно. Метод нетрудно уяснить, прочитав, например, сборник бесед одного способного, известного журналиста с шестью богатейшими людьми Англии. Льстец успешно сочетает строгую правду с атмосферой благоговения и тайны, используя отрицания. Представим, что вы пишете благожелательный очерк о Пирпонте Моргане. Быть может, вам нечего сказать о мыслях его или вкусах, но вам откроется широкое поле действия, если вы начнете говорить, чего он не думает и чем не восхищается. Вы напишете: «Его не прельщают ни новые течения немецкой философии, ни расплывчатая широта пантеизма, ни более суровые радости неокатоличества». Показать это можно и на примере поденщицы, которая только что пришла ко мне и заслуживает хвалы гораздо больше. Я напишу: «Нельзя причислять миссис Хиггз к последователям Луази, но нельзя и отождествлять ее взгляды со школой, которую представляет Гарнак». Прекрасный метод; льстецу он позволяет говорить о чем угодно, кроме предмета лести, предмету же лести придает сильный, хотя и странный блеск, наводящий на мысль о том, что он достойно преодолел муки духовного выбора, тогда как он о них и не ведал. Да, метод прекрасный; и я хотел бы, чтобы его применяли не только к миллионерам, но и к поденщицам.
Есть и другой метод, тоже распространенный среди журналистов: богатых людей без малейших к тому оснований называют «простыми», «скромными» или «сдержанными». Простота и скромность — лучшие качества на свете. Насчет сдержанности я не так уверен. Мало того, я думаю, что истинно скромные люди не очень сдержанны, а уж простые — тем паче. Как бы то ни было, простота и скромность — редчайшие, высочайшие добродетели, и говорить о них походя нельзя. Не многим удавалось хоть иногда быть скромными, простота же требует тяжкой, поистине героической борьбы. Такие качества — не пустые слова, пригодные для лести; пророки и праведники искали их и не нашли. Однако жизнеописания богачей просто кишат ими. Если журналисту нужно описать дельца или политика (что одно и то же), он непременно скажет: «Мистер Мидас [80] в скромном черном фраке, белой манишке и серых брюках, с простым зеленым галстуком и неназойливой гвоздикой в петлице…», словно кто–то предполагал, что его герой носит алый фрак и брюки, расшитые блестками, а в петлицу вдевает фейерверк.
Это достаточно нелепо, когда речь идет о будничной, внешней жизни богатых, но уж совсем бесстыдно, когда дело доходит до происшествия, серьезного даже для политиков. Я имею в виду смерть. Вконец утомив нас описанием костюма, сложного настолько, насколько этого требует обычай, подробно поведав о доме, вопиющая роскошь которого уже не позволяет называть его домом, и окрестив все это скромным, льстец призывает нас умилиться простотой тихих похорон. Какими же еще они могут быть? Над могилой несчастного богача, к которому следует испытывать лишь безмолвную жалость, снова и снова звучат невыносимо бессмысленные слова. Помню, когда умер Бейт, газеты писали, что явились все влиятельные люди. что цветов были горы, но называлось это «простые, скромные похороны». Господи, чего же еще они ждали? Человеческих жертв? Полубезумных плакальщиц? Погребальных игр Патрокла? [81] Боюсь, эти дивные языческие видения не явились журналистам, и они употребляли слова «простой» или «скромный» порядка ради, ибо эта машинальная лесть вошла в обычай у тех, кому приходится часто и быстро писать. Скоро эпитет «скромный» уподобится эпитету «достопочтенный», который, если верить слухам, вежливые японцы ставят перед каждым существительным, например: «Положите вашу достопочтенную шляпу на достопочтенную полку» или «Соблаговолите почистить ваши достопочтенные башмаки». В недалеком будущем мы прочтем, что скромный король вышел к народу, с ног до головы одетый в скромное золото, в скромном сопровождении десяти тысяч скромных лордов. Нет! Если хочешь славить блеск, зови его блеском. Когда я в следующий раз встречу богача, я медленно подойду к нему и обращусь с приветствием в духе пышных правил восточного этикета. Скорее всего, он убежит.
НРАВСТВЕННОСТЬ И ТОМ ДЖОНС
Двухсотую годовщину Генри Филдинга празднуют вполне резонно, хотя, насколько я понимаю, только в газетах. Наивно ожидать, что из–за какой–то хронологической случайности Филдинга прочитают те, кто о нем пишет. Этот вид пренебрежения и называется славой. Классик — тот, кого хвалят не читая. Несправедливости тут нет; это просто уважение к выводам и вкусам человечества. Я не читал Пиндара (я имею в виду греческого, Питера Пиндара я читал), но это, конечно, не удержит меня от замечаний «…шедевры Пиндара» или «…великие поэты, Пиндар и Эсхил». Ученые люди на редкость несведущи в этом (как и во многих других) отношении и потому занимают совершенно неразумную позицию. Если простой журналист или что–то читавший человек упомянет Вийона или Гомера, они торжествующе фыркают: «Вы не читаете на старофранцузском!» или: «Вы не знаете греческого!» Но торжествовать им нечего, нечего и фыркать. Обычный человек имеет такое же право упоминать установленные, традиционные факты литературы, как и любые другие. Не знающий французского языка может считать Вийона хорошим поэтом: ведь люди и без слуха считают Бетховена хорошим композитором. Из того, что у человека нет слуха, не следует, что слуха нет у человечества. Из того, что я необразован, не следует, что я обманут. Тот, кто не похвалит Пиндара, пока не прочитает его, — низкий, подозрительный скептик самого худшего толка, не верующий не только в бога, но и в людей. Он подобен тому, кто остережется назвать Эверест высоким, пока не взберется на вершину; тому, кто не поверит, что на полюсе холодно, пока не побывает там.
Однако такое доверие не беспредельно. Человек может хвалить Пиндара, ничего не смысля в греческом. Но если кто–нибудь станет отрицать, обличать и клеймить Пиндара и доказывать нам, что Пиндар был последним невеждой и бесстыдным обманщиком, тогда, мне кажется, не будет вреда, если он хоть немного поучится греческому и даже заглянет в Пиндара. То же самое относится к критику, который назовет Пиндара безнравственным, гнусным, циничным, низким и грязным. Когда люди говорят о нем так, я жалею, что они не знают греческого. Когда они заговорили так о Филдинге, я очень пожалел, что они не читают по–английски.
Насколько я понял, теперь возникла поразительная мысль, что Филдинг — писатель безнравственный и оскорбительно грубый. Просто удивляешься, как часто авторы передовых, критических и других статей словно бы просят за него прощения. Один критик объясняет, что иначе он не мог, потому что жил в XVIII веке; другой — что мы должны учесть изменение нравов; третий — что, в конце концов, Филдинг не совсем лишен достойных человеческих чувств; четвертый — что у него даже было несколько второстепенных добродетелей. О чем это они? Филдинг описывает, как Том Джонс шел по определенной дороге, по которой, к несчастью, идет очень много молодых людей. Не стоит и говорить, что Филдинг прекрасно знал: лучше бы по ней не идти. Даже Том Джонс это знал. Он так многословно говорил, что очень, очень не стоило по ней идти; он говорил, в сущности, что она погубила его жизнь; это увидит каждый, кто потрудится прочитать соответствующий отрывок [82]. Совершенно ясно, хотя и не сказано прямо, что для Филдинга лучше быть Томом Джонсом, чем трусом и подлецом. Нет ни фразы, ни строчки, ни слова о том, что для Филдинга лучше быть Томом Джонсом, чем хорошим человеком. У Филдинга одна задача: он описывает определенного и очень реального молодого человека, — молодого человека, чей эгоизм и чьи страсти были иногда сильнее, чем все остальное.
Нравственная практика Тома Джонса плоха, хотя и не так плоха духовно, как нравственная практика Артура Пенденниса или нравственная практика Пипа; во всяком случае, не так плоха, как глубоко безнравственная практика Даниеля Деронда [83]. Да, она плоха; но я не вижу никаких доказательств, что плоха его нравственная теория. Нечего и советовать большинству молодых людей дорасти до нравственных взглядов Филдинга. Они оказались бы в архангельском лике, если бы усвоили нравственные взгляды бедного Тома Джонса. Том Джонс не умер со всеми своими пороками и достоинствами; он ходит по городу, мы встречаем его, курим с ним, пьем с ним, говорим с ним, говорим о нем. Разница только в том, что нам не хватает духу о нем писать. Мы расщепляем цельного и обычного человека, Тома Джонса, на куски. Барри пишет о лучших его минутах, и мы видим его лучше, чем он есть. Золя пишет о худших его минутах, и мы видим его много хуже, чем он есть. Метерлинк воспевает ту минуту духовного упадка, когда человек сам знает, что струсил; Киплинг воспевает те минуты жестокости, когда он трусит еще больше. Наши непристойные писатели подчеркивают непристойности в его жизни; наши ханжеские писатели подчеркивают в ней ханжество. Мы смотрим в щелочку, через которую он кажется бесом, и называем это новым искусством. Мы смотрим в другую, через которую он кажется ангелом, и называем это новой теологией. Но если мы берем с полки книгу, листаем пожелтевшие страницы и находим в этой ветоши рассказ о человеке, как он есть, о том, кто ходит за стеной, на улице, мы брезгливо кривимся и говорим о безнравственности старых времен.