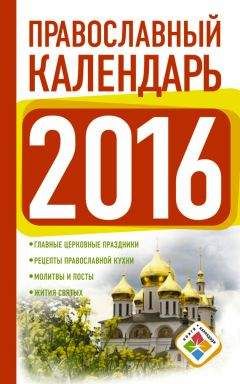Дмитрий Герасимов - Невидимое христианство. Собрание философских сочинений (1998—2005)
В средние века сократический дискурс наиболее полно – в той мере, в какой его не заслоняет собой Платон – воспроизводит Блаженный Августин: в учении о неисповедимости последних глубин в Боге и в человеке и о познании Бога через душу, и души – через Бога. Поэтому истина трактуется Августином в сократическом духе – как граница возможных рассуждений рассудка, граница, с помощью которой интеллект судит, и сам оценивается ею. Однако диалогический (нравственный) характер философии Сократа переносится Августином (в точном соответствии с основным алгоритмом обыденного мышления!) во внутренний мир субъекта: радикальная интроверсия моральности (как способ обнаружения личности) ведет к умозрительному отрыву последней от познавательной (рациональной) сферы человека. Отсюда, с одной стороны, отождествление моральности и святости, а с другой – признание платоновских идей (как мыслей Бога)233. В целом критическая направленность сократизма элиминируется Августином посредством теологических рационализаций сферы непознаваемого (доказательства существования истины и Бога, тринитарная проблематика, теория разумных семян и т.д.). В теологической переработке платонизированного Сократа Августин предстает как истинный основоположник западной схоластики.
Лишь Новое время дает фигуру в идейном смысле сопоставимую с Сократом – это Иммануил Кант. Это и пропедевтический и педагогический по преимуществу характер его философии, и отказ от догматической установки рационального исследования предельных вопросов бытия, и критика способности познания. Наконец, моральный характер этой критики, т.е., по Канту, главенство практического разума над разумом теоретическим. Вместе с тем, кантовские «вещь в себе» и «априорность» в такой же мере противоположны «непознаваемому» Сократа и его нравственной формуле самоограничения разума («я знаю, что ничего не знаю»), в какой вообще чистый разум противоположен живому опыту, что яснее всего на примере кантовского учения о моральной природе разума, базирующегося на принципе тождества нравственной воли и спекулятивного разума. Рационалистическое решение Кантом проблемы, поставленной Сократом, гносеологически («трансцендентально») отрывает познающего субъекта от познаваемой им действительности, ведя к результатам, аналогичным у Платона (в частности, в отношении эстетического, которое, по Канту, свободно от морального в той же мере, в какой независимо и от логического). Вместе с тем, ряд противоречий кантовской мысли указывает на достаточную близость ее к мысли Сократа: учение о трансцендентальной апперцепции и чувственное ограничение опытной сферы, учение об автономии нравственной воли и деантропологизация моральной философии и т. д. В целом кантовский рационализм (как научность познания любой ценой, даже в ущерб его подлинности) задал философии такое направление, какое завершилось, вопреки желанию самого Канта (через возвращение к натурфилософии у Фихте и Шеллинга) – в панлогизме Гегеля.
В истории европейской философии, кажется, до сих пор осталось «незамеченным», что открытие Сократа до неприличия расходится с общими принципами рационального познания действительности, устанавливая новое пространство метарациональной духовности, преодолевающей в опыте бытийную (природную) несвободу родовых установок обыденного мышления. К примеру Ф. Х. Кессиди, упоминая о фундаментальном различии науки и нравственности, выявленном расхождении между сущим и должным, по сути сводит различие между Сократом и Аристотелем более к «различию умонастроений, чем их конкретных взглядов», полагая «правдоподобным взгляд, согласно которому Сократ, не отрицая очевидных фактов, давал им собственное толкование и потому употреблял термин „знание“ в необычном смысле… Аристотель же апеллировал к обычному языку»234. Однако, с учетом радикальных поправок на духовный опыт, связанный с христианством, открытие Сократа на самом деле означает открытие духовного «инобытия» (инверсии) разума – духовности как «опытности», отличной по бытию от рациональности привычных и «общезначимых» форм сознания.
Опыт жизни и деятельности Сократа учит, что философский акт в основе своей как личный духовный опыт всегда непостижим, непроизволен – единственен в своем роде, и в силу этого обладает всей полнотой духовного творчества (вдохновения), духовного прозрения сквозь предвзятые, предзаданные мышлением границы человеческого бытия в мире. Не рационально, не природно, а гибельно – огненно и духовно – личность проходит сквозь все «мирские» определенности родовой жизни, высвечивая собой их относительный (к субъекту) и вместе с тем необходимый (к миру, к объекту) характер. Философские «смыслы» – предельные, гибельные состояния человеческого бытия в мире, его прохождения над разрывами собственной непотаенности. Напротив, обыденность сплошь абстрактна и понятийна. «Быт» насквозь рационален и необходим. Их торжество и характерно для догматических периодов в истории философии. Но рано или поздно эти периоды обречены сменяться творческими взлетами духа, несущими с собой онтологическое прозрение человеческой свободы – ее неотмирности и недискурсивности.
1999—2000К христианским истокам
(Против метафизики всеединства)235
Исторически проблема соответствия христианской философии собственным духовным первоистокам обнаруживает себя в моменты творческого пробуждения самобытной христианской мысли, отчетливо формулируется в периоды «теургического беспокойства» (Н. А. Бердяев) и церковного брожения, когда возникает необходимость самоопределения относительно новых реалий как внутрицерковной, так и общесоциальной жизни. В целом ее постановка свидетельствует о внутренней силе и жизнеспособности христианства. Так было и в момент наивысшего расцвета русской философии – в период религиозно-философского ренессанса конца XIX – начала ХХ вв., с самого начала проходившего под знаком обновления религиозного и церковного сознания. Даже тот факт, что, вопреки ожиданиям, результатом грандиозных философских построений Вл. Соловьева, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского и еще целой плеяды талантливых русских мыслителей, так и не явилось создание официальной православной философии по типу томистской в католицизме236, косвенно – опять же через постановку указанной выше проблемы – свидетельствует о внутренней неисчерпанности русской религиозной мысли (хотя внешне и прерванной катастрофическими событиями ХХ века).
Теоретически в основе наиболее значимых и определяющих идей русской философии указанного периода, продвинувших ее к новым познавательным рубежам, т.е. прежде всего связанных с представлением о Софии Премудрости Божией и носящих общее название «софиологии»237, лежат определенно нехристианские религиозно-философские интуиции. Полумистическая и сверхрациональная интуиция всеединого бытия, или сознания, столь характерная для многих русских мыслителей, включая тех из них, кто не принадлежал непосредственно к направлению «метафизики всеединства», связанному с именем В. С. Соловьева, не только не является определяющей для христианского сознания (с тем, чтобы на ее основе можно было строить христианскую философию), но даже наоборот – вступает в явное противоречие с конституирующими данными христианского духовного опыта. Вопреки мнению философов, принадлежащих к данному направлению, никакое всеединство, никакое органическое целое не может быть выведено ни из Нагорной проповеди, ни из апостольских посланий, ни из Откровения Иоанна Богослова – их просто нет в составе духовных переживаний последовавших за Христом.
Духовная нерелевантность «объективно-идеалистической» философии и, в частности, философии всеединства238 и обусловлена прежде всего нехристианскими источниками, лежащими определенно в сфере природно-космической – языческой – религиозности и прямо с ней связанной рационалистической метафизики платоновского и неоплатоновского типа. При этом, платонизм, на протяжении всей истории отечественной мысли служивший мощным катализатором религиозно-философского пробуждения и вдохновения239, привносился в нее не только через собственно философскую традицию – тексты Платона, Дионисия Ареопагита, Николая Кузанского, немецкую спекулятивную мистику, немецкую классическую философию (в которой выделяется влияние Шеллинга) и т.д., но также и более всего – через богословие, в котором, помимо всего прочего, всегда содержался значительный философский элемент. Писания греческих Отцов Церкви и практически весь корпус средневековой православной богословской и богослужебной литературы, составившие основной фонд для последующей философской рефлексии, несут на себе печать неоплатонического дискурса. Даже в канонических текстах Евангелий заметно использование характерного для неоплатоников и греческой мудрости в целом, абстрактно-понятийного аппарата, оперирующего понятиями типа «все в одном» или «единое во всем», специфически греческими понятиями о Логосе, впервые адаптированными у Филона Александрийского, о «пневме» и т.п., что, очевидно, свидетельствует в пользу той точки зрения, что христианство с момента своего возникновения и до времени доктринального оформления в IV – VI вв. могло воспользоваться и с необходимостью воспользовалось наиболее развитым философским инструментарием, более всего способным на тот момент в доступно-рациональной форме передать основные данные нового религиозного Откровения. Каковым и явилось на тот момент учение Плотина, что, впрочем, не исключало иных влияний, например, стоических, но доминирующим был именно платонизм. Однако все это-то как раз и не является достаточным основанием для того, чтобы самостоятельная христианская философия в связи с особенными историко-культурными условиями своего возникновения была бы принуждена тем самым и в дальнейшем следовать путями, предуготовленными ей неоплатонизмом и приходить к результатам, аналогичным у Платона или Плотина.