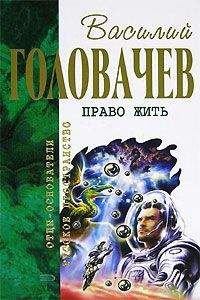Василий Дворцов - Манефа
Приход зарегистрировали через год. С Геной напару вдруг как-то легко собрали подписи. Власти, было, стали кочевряжиться, так она смело, аж сейчас дух захватывает, махнула прямо в Москву. Потом опять штурмовала исполком. И раем манила, и адом пугала, и льстила, и смешила. Они её даже милицией два раза выставляли. Стерпела всё. Потом принесла все свои больничные справки и пообещала умереть голодом в приёмной. Сдались! Поняли, с кем дело имеют. Первую литургию присланный из города иеромонах служил прямо у неё на квартире. Вот радость-то была, вот счастие. Человек тридцать вбилось, не продохнуть. Батюшка, красивый такой, в блестящих ризах, с кадилом вокруг печи едва проходит, Петровна с Геннадием хором поют. И слёзы, и улыбки. Ей миром в пояс кланялись, благодарили…. И иеромонах хорош оказался. Спасибо владыке, прислал то, что надо. Он и к службе ревнив, и мастеровой на все руки. И с людьми общение наладить умеет. С ним теперь и храм вот поставили: перестроили брошенный шлаколитой дом, приделали алтарь, даже куполок получился. Заборчик обновили. Вот и архиерея с иподьяконами есть где завтра встречать. Есть и чем…. Только, как бы батюшкино благословение на прошение получить? Не просто это будет. Не просто. И всё характер её поганый. Зачем она, как староста, ему на днях сгоряча велела чемоданы собирать? Опять же, и он тоже упёрся! Петровна ясно сказала: кто на кассе сидеть будет, а кто полы мыть. А он по-своему всех баб перераспределил. А она ведь хозяйка прихода! Так в исполкоме записано, и, если ему что не нравится, то пусть уезжает. Епархия ей другого пришлёт!.. Господи помилуй, зачем Петровна это ему сказала?.. Ох, как он на неё тогда посмотрел. Ровно булавками проткнул. И кабы она в первый раз ему такое сморозила….
Самым ранним, туманно-розовым утром, бледная от бессонной ночи Петровна боком-боком подбиралась к батюшке. Тот словно что чувствовал, так и уходил от беседы. То в алтарь занырнёт, то, выскочив через пономарскую дверь, по двору пулей пробежит, какой-то мусор спрячет. И ровно не слышит её зова. Но она его всё-таки прижала на солее:
— Батюшка, прости ради Бога, мне бы с тобой пошептаться.
— …?
— Посоветоваться. Ну, и покаяться.
— Кайся здесь. Что? Опять курицу набила?
— Да?! Знаешь уже? Набила, виновата. Так ведь ей уже четырнадцать лет, давно не несётся, а на огород каждый день нападает. Замучилась ей по-хорошему говорить, — и привязывала, и за решётку прятала. Нет, развяжется, вылезет, окаянная, и сразу же на грядки. Сил больше нету.
— Так заруби.
— Да как же? Жалко, привыкла к ней, ровно к родной. Столько лет вместе. Так что, прости грех, опять её побила. Грешная я, грешная.
— Ты мне зубы не заговаривай, — Петровна дугой согнулась, лицом в пол, — она до холода в спине боялась этих его маленьких буравчатых глазок. Верно говорят, что их батюшка тоже с прозорливством, тоже монах ведь, — А про то, что опять Маргаритиному младенцу грыжу загрызала, молчать будешь?
— Проболтались? Это я в последний раз! Ей, Богу, в последний.
— Опять "в последний". Ничего не боишься. Сколько уже говорено-переговорено. Доколдуешь. Ты чего ещё опять задумала? Или кто подбивает?
— Ой, батюшка, родной, — подбивает! Разве ж я сама бы решилась?
— Говори поскорей, некогда. Пора службу начинать, а я не готов с тобой.
— Отец родной, благослови, как владыко подъедет, прошение поднести. Я хочу у его просить…
— А ты с чего взяла, что он подъедет? — он не просто перебил, а попытался опять в алтарь скрыться. Но Петровна вцепилась в рукав, держала крепко:
— Так ты же сам сказал!
— Он и на той неделе обещал. А сам мимо промчался.
— Прости, так то я была виновата. У меня тесто не подошло. Вот я и стала ночью на молитву. Прочитала Богородице акафист и канон, ну и попросила, чтоб его мимо пронесло. Матерь Божья! Чем бы мы его угощали? Опозорились бы только.
— Ну вот! Тут, понимаешь, народ собрался. С работы поотпросились. Детей с цветами привели. Даже начальство под парами машины держало. Как-никак правящий архиерей! Событие для медведей наших. А он — мимо! Все на него обиделись, но, оказывается, это всё ты! — священник неожиданно вырвал рукав и заступил в алтарь, прихлопнув дверкой перед её носом.
— Отец родной! — в голос запричитала Петровна, уткнулась носом и губами в ноги архангела Гавриила, — прости меня окаянную! Но как бы мы его угощали? А теперь всё готово, всё! И карпа запекли, и два пирога отпариваются, и арбуз в холодильнике! Батюшка, так как же мне? Подавать прошение? Подавать, али нет?! А?! А?!
И вдруг из-за тонкой дверочки, тихо-тихо:
— Что ты от него хочешь?
— О монашестве просить, — так же шёпотом прислонилась с этой стороны Петровна.
— Ты постричься хочешь?
— Хочу. Хочу, родной.
— Так я тебя сам подстригу.
— Сам? Отец ты мой! Спаси тя, Господи! Точно обещаешь?
— Обещаю.
Петровна чуть на одной ножке не завертелась:
— Родной ты мой! Поклянись! А когда, когда?
Пауза затянулась до тоски в животе. Она терпела. Тут уже явно испытывали на смирение. Это уже почти по-монашески. Ничего, ничего. Не такое вытерпливали, было бы ради чего. Наконец батюшка вышел со свечой, стал зажигать лампадки у царских врат. Он уже успел облачиться, скоро и возглас подаст. А она? Как же она?
Тот, не глядя, буркнул:
— Что стоишь? Ступай на клирос. Сказал же — постригу. За полчаса до смерти.
ОБИДА
Навстречу, снизу вверх по Андреевскому спуску поднимались весело галдящие и смеющиеся группы туристов. Весенний Киев щедро принимал и чаровал своих гостей буйным майским цветением. Днём в солнечно радостном воздухе запахи отцветающей сирени свивались с ароматом раскрывающихся роз, а ночью повсюду царил густой дух акации. Это только вспомнить: Андреевский спуск, Киев и май. Любимая пора в любимом месте любимого города. Южная весна пышно сияла и плескалась избытком своей радости повсюду: на свежей нежной ещё зелени лип и орешника, в вымытых витринах, в распахнутых солнцу и небу окнах и на свежеокрашенных скамейках, с замершими в предчувствии скорого чудесного будущего молодыми и пожилыми парами. А как бы эта двадцать четвёртая весна окрыляла и вдохновляла этими самыми ожиданиями Павла! Если бы не бы…. Но, как раз его будущее и было поставлено нынче под очень большое сомнение.
Разговор со следователем продолжался больше шести часов. Вначале, пока он нервничал, пытался оправдываться и призывал к здравому смыслу, не старый, но уже какой-то потёртый, маленький капитан легко подлавливал его на оговорках, неточностях, много писал, нагло домышляя и заставляя принимать эти домыслы за собственное Павла признание. А когда первый страх и растерянность прошли, допрос стал скатываться в примитивное надругательство. Всё больше теряя тон абсолютного ведущего, следователь стал просто нахраписто давить, щедро используя ненормативную лексику и блатной жаргон, пытаясь припугнуть, сбить в грязь слишком вежливого подозреваемого. Но этим он только окончательно утерял контроль над просто замкнувшимся Павлом. На минуту, меняя тактику, вернулся, было, к артистично вкрадчивым уговорам. Однако, поняв, что превосходства уже не вернуть, начал свирепеть всерьёз. Напрягшись до сизости и потея всеми широко открытыми порами алкоголика со стажем, он то орал, брызгаясь слюной, то шипел, в подробных картинках расписывая, что в камерах делают урки с молоденькими, хорошенькими арестантами, да тем более, обвиняемыми по сто семнадцатой. А потом так же подробно фантазировал на тему того, что переживут его мать и жена, когда в суде будут зачитываться все мелочи совершённого им преступления. Посадив голос, выпил залпом полный стакан. Утёрся несвежим платком, и стал долго и отвлечённо в окно говорить о проблемах воспитания советской молодёжи, о промахах комсомола, который не смог разглядеть в своих рядах патологического извращенца. Опустошенный и вполне довольный своим живописным монологом, следователь вдруг ушёл, оставив Павла на два часа прикованным наручниками к батарее. Вернулся, сильно пахнущий свежесъеденной котлетой и луком. Сыто, не спеша, закурил, и начал раскручивать спектакль снова, откровенно забавляясь, как у допрашиваемого унизительно невольно течёт голодная слюна.
У допрашиваемого? Нет, у убеждаемого. У тупо и примитивно заставляемого признаться в том, что он не только не совершал, но и представить себе никогда бы не смог. Да что там говорить! Бред. Полный бред. Павел с трудом верил в реальность происходящего, и происходящего именно с ним и сейчас. А ведь на дворе не тридцатые, а восьмидесятые годы. И Андропова схоронили. И Черненко. Но тут, в этой выкрашенной ужасной синей краской ментовской конуре, словно произошёл некий фантастический провал во времени. Обшарпанный стол со стопкой серых папок, древняя пишущая машинка, толстые крашенные-перекрашенные решётки за пыльными стёклами. Плакат чуть ли не тех "самых" времён с призывом "Бди"!.. Не здесь ли и деда допрашивали? Только следователь, наверное, был не в жёлтых вельветовых брюках, а в галифе с кожаной изнанкой. Но курил, поди, также без перерыва: