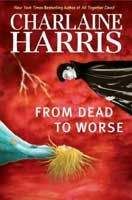Максим Шинкарёв - Бездна
— Вот это да.
— Понадобилось примерно четыре ночи, чтобы я понял, что бояться, в принципе, нечего. Я ещё повизгивал, но спать мои соседи стали лучше. К концу месяца ночами я молчал, бродя во сне по Аду.
Он вынул из пачки сигарету, прикурил от стальной зажигалки. Затянулся, выпустил дым в сторону.
— Там оказалось неприятно, но уже не так страшно, когда ты понимаешь, что тебе просто приходится тут торчать, пока не наступит утро. Ты смотришь на муки терзаемых, на гниющую и горящую плоть, на отрываемые куски тела, на кислоту, льющуюся в раны, на воду, в которой топят связанных людей, чтобы спустя полминуты оживить их и продолжить. Это странное место.
— Странное? Ад? Вы мастер эвфемизма. Кстати, вы как, не зачерствели там?
— Нет. Как ни странно, я начал ценить дневной мир. Помню, за окном росла ель, я и мог часами смотреть, как ветер колышет ветви, как снег оседает на иглах. Потом окно замерзло, и меня прогнали с окна. Дали равнодушно леща. И этот удар оказался для меня сильнее адских видений. Санитар имел надо мной большую власть, чем Преисподняя. Это был шокирующий опыт. В конце концов я просто стал терпеливо ждать, когда меня выпустят.
— И вас выпустили?
— Конечно, я же сижу сейчас тут, с вами. Просто времени ушло ещё с месяц. Тут как раз появился кто-то тяжёлый, и понадобилось место. Меня вернули в общую палату. Гопники, что косили от армии, давно прокололись, удрав как-то в самоход за алкоголем, после чего их законопатили на две недели к буйным, и они все как один пошли на поклон к врачу, и оттуда в армию. Буйные — это другое отделение, я был просто у тяжёлых. А эти реально опасные — чуть что, могли и покалечить. Так что в общей палате стало попроще. Только слепнущий парень плакал ночами. Я периодически думал, как ему помочь, но в итоге пришёл к тому, к чему пришёл. Еще через месяц меня выпустили, мои соседи немного огорчились, потому что я играл с ними в карты и не расстраивался, когда проигрывал.
— На что играли?
— На щелбаны.
— Вы терпели?
— После прогулки по Аду что угодно было развлечением. Правда, эти щелчки всё сильнее вбивали в меня ощущение, что люди больше надо мной властны, чем Ад. Правда, ещё чуть позже я узнал, что и люди не имеют надо мной никакой власти.
— Это как же?
— Когда я вышел из лечебницы и вернулся в школу, на меня стали точить зуб хулиганы. Я мало чего боялся, и даже то, что действительно могло повредить, что было по-настоящему опасно, воспринимал почти стоически. Ночью я видел такое, чего не видит городской патологоанатом, а днём меня пытались развести на мелочь. Я смотрел на них мутным взглядом и проходил мимо. Это их бесило. В конце концов заводила пообещал поставить меня на нож, если я не принесу денег.
— Вы принесли?
— Нет. За день до назначенного срока он сам получил удар ножом в пьяной драке. Через микрорайон проходил какие-то чужие гопники, совсем отмороженные, и они воткнули ему в живот перочинный нож. Он упал в кучу мусора и так и лежал там без сознания, пока его не нашли. Он умер на столе у хирурга.
Он стряхнул пепел с сигареты.
— От меня отстали. С некоторым мистическим страхом. Не то чтобы кто-то поверил, что я чего-то такое сделал, чтобы мой обидчик пострадал и умер, а просто решили не связываться. Я стал чем-то вроде местной страшноватой легенды. А потом прошёл год, и я поступил в институт.
— На какой факультет?
— История. Потом, правда, перевёлся на философский. Заучивать даты сражений греков с римлянами оказалось на редкость скучно. Ночью ты смотришь в Ад, а днём — в нудную страницу, и понимаешь, что всё это совсем не имеет ну никакого смысла. И вот тут я снова наткнулся на приключения.
Он прикурил новую сигарету.
— Что случилось?
— Мой преподаватель оказался дальним родственником убитого хулигана. И характер у него оказался схожий. Он стремился подчинить студентов, показать свою власть. Денег принципиально не брал, но каждый зачёт мы сдавали раза по три, не меньше. Народ куксился, канючил, и это его грело. А мне было, как всегда, без особой разницы. Вплоть до того, что я даже не переламывался с подготовкой — раз сдавать три раза, то и каждый раз я учил по трети вопросов. Зато знал хорошо. Так и шло — он вытирает об меня ноги, я прихожу на другой день. Он брызгать слюной начал под конец, но поделать ничего не мог. В конце концов я подал апелляцию в деканат, и мне назначили другого экзаменатора. Я сдал на пять, и он слёг с прорвавшейся язвой, когда увидел результаты. И вот тут я стал понимать, что власть людей надо мной имеет свои особенности. В последующие десять лет возникали различные конфликты, и в случаях, когда я был не виноват, все самые страшные угрозы рассыпались. В следующий же год преподаватель перешёл границу, обвиняя меня в самых разных грехах. Финальной точкой стало обвинение меня в воровстве, я якобы украл с кафедры старый принтер, но оперативник, который поговорил с коллегами обвинителя и студентами моей группы, отчего-то вдруг не поленился съездить, проверить сарай на его дачном участке и обнаружил несчастную железку там. В итоге преподавателя отправили на пенсию. Я доучился до конца, окружаемый всё той же непонятной аурой парня, с которым лучше не связываться, и выпустился.
— И что, вы никогда не, э-э-э, страдали?
— Ну, я получал по заслугам. Если был действительно виноват, то почти всегда получал своё. Если соврать, или пропустить пару лекций, то возмездие следовало неукоснительно. В итоге я понял, что лучше не грешить без крайней на то необходимости. Мне, правду сказать, нечасто и хотелось — Ад ведь всегда был со мной, и я всё время видел самую непотребную мерзость. Наполнять пусть даже самой малой мерзостью ещё и дни мне совершенно не хотелось.
— Странный вы, должно быть, были студент — днём лекции, ночью лабораторные в Аду.
— Да, где-то так. Но потом я напугался так, что обделал постель. В двадцать лет.
— Ничего себе признание.
— Я узнал, что есть условия, при которых Ад до меня дотянется.
Я посмотрел в стакан. Допил остатки виски с растаявшим льдом, и сходил за новой порцией. Он ждал, вертя в пальцах зажигалку. Когда я сел, он продолжил.
— Я увлёкся одной девушкой, но она не ответила мне взаимностью. И я про себя пожелал ей зла. Подумал плохое. Ночью в Аду я встретил раскалённого до ярко-красного, кислотного, как у дешёвых детских карандашей, цвета демона. Он взял меня за руку и царапнул когтем. Боль была адская. Я закричал. Когда проснулся, постель была мокрой.
Он расстегнул манжету рубашки. Я сам не заметил, что его пиджак оказался висящим на спинке стула. Наверное, снял, когда я ходил за новым стаканом.
По предплечью, от запястья к локтю, тянулся страшный шрам. Неровный, извилистый, с поперечными разрывами в двух или трёх местах.
Я залпом выпил свой виски.
Он опустил рукав, застегнул манжету.
— Он сказал мне, что я причинил зло невинному в том человеку, и буду наказан.
— Вы же сказали, что только подумали?
— Подумал, и этого достаточно. Когда один человек думает о другом плохое, желает ему зла, это становится материальным. Не обязательно сразу, не обязательно явно, но становится. Обратите внимание при случае, когда человек вызывает у других множественные злые мысли, он обычно заболевает, попадает в тяжёлые ситуации.
Я заглянул в стакан. Только лёд.
— Я знаю людей, которым многие желают смерти, а они цветут и пахнут.
Он кивнул.
— Да, есть и такие. Но либо вы не видите, как они несут потери, либо они только двигаются к катастрофе. Ничто не остаётся неотмщённым. Никогда.
— Откуда вы знаете?
— Я видел их в Аду.
Я поперхнулся. Поднял взгляд и посмотрел в его глаза. Он смотрел тихо и спокойно, и я внезапно поверил всему, что он говорил. Мне даже показалось, что в его зрачках мелькнул тусклый красный отблеск.
Я машинально хлебнул из стакана, и алкоголь протёк по языку, как вода.
— И что, мы тогда, выходит, все должны гнить заживо? Мы ведь постоянно желаем друг другу зла? Ругаемся, в конце концов?
— Ну, не всё из этого становится реальным. Какие-то уколы просто не докатываются до жертвы. Но всё воздаётся тому, кто желает зла.
— А почему так?
— Потому что мы живём не в мире людей, не в мире бесов.
— А в мире кого?
Он усмехнулся.
— Ответьте сами. Я не оставил вам ненужных вариантов.
Я усмехнулся, глотнул. Остановился. Глянул в стакан.
Наполовину полон.
Я поднял глаза на него. Он молчал. В пальцах дотлевала сигарета.
— Вы говорите о Боге.
— Да. Больше в этом мире нет никого. Только Он, мы и бесы.
— Вы проповедник? Иеговист?
— Нет. Я богослов, даже скажу вам, православный богослов.
— Вы мне лжёте. И учтите — денег не дам.
— Зачем мне ваши деньги. — он затушил окурок в пепельнице, достал из пачки новую сигарету. Прикурил, положил зажигалку рядом с пачкой. Выпустил дым.
— Так вот, это именно Его мир. Если Он захочет, чтобы у меня были деньги, Он даст их мне. Если захочет, чтобы не было — заберёт. Или я сам отдам кому-нибудь.