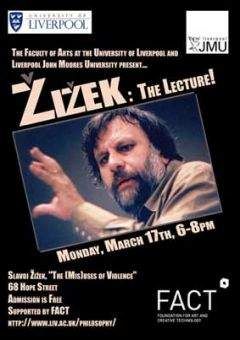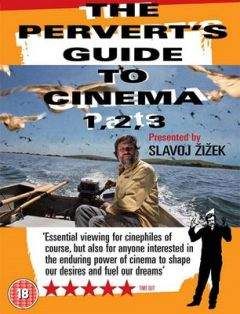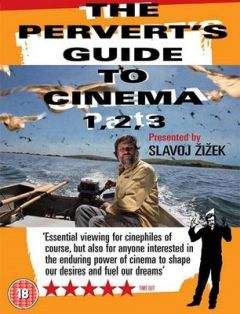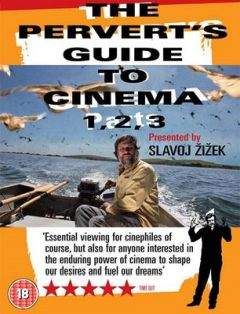Славой Жижек - Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие
Вина Бухарина, таким образом, носит чисто формальный характер. Это не вина за совершенные преступления, в которых его обвиняют, но вина человека, который настаивает на своей позиции субъективной автономии, находясь на которой вину можно обсуждать на уровне фактов, т. е. на позиции, которая открыто утверждает разрыв между реальностью и ритуалом исповеди. Крайней формой предательства для Центрального Комитета является привязанность к минимуму личной автономии. Бухарин, по сути дела, говорит Центральному Комитету: «Я готов дать вам все, но не это (пустую форму личной автономии)!» Разумеется, именно это нужно Центральному Комитету больше, чем что–либо другое. Интересно, что субъективная аутентичность и расследование объективных фактов здесь не противопоставляются, но связываются как две стороны одного и того же вероломного поведения, сопротивляющегося партийному ритуалу.
Последнее доказательство того, что такого рода пренебрежение фактами обладает определенными парадоксальными этическими достоинствами, мы обнаруживаем в совершенно противоположном, «позитивном» случае, например в истории с Этель и Юлиусом Розенберг, которые, хотя и были виновны в шпионаже, как это показывают недавно рассекреченные материалы, все же продолжали героически настаивать на своей невиновности до самого конца, до камеры смертников, понимая при этом, что признание могло бы спасти им жизнь. Они как бы «искренне лгали»: будучи на самом деле виновными, в «более глубоком» смысле они были невиновны, а именно в том же смысле, в каком были виновны обвиняемые сталинских процессов, которые фактически были невиновны. Итак, расставим все по местам: в конечном счете, упрек членов Центрального Комитета Бухарину заключался в том, что Бухарин не был достаточно безжалостным, что он сохранял черты человеческой жалости, «мягкосердечия».
Ворошилов: Бухарин искренний и честный человек, но я боюсь за Бухарина не меньше, чем за Томского и Рыкова. Почему я боюсь за Бухарина? Потому что он сердобольный человек. Не знаю, хорошо это или плохо, но в нашей нынешней ситуации это мягкосердечие не нужно. Оно плохой помощник и советчик в делах политики, потому что оно. это мягкосердечие, может разрушить не только самого мягкосердечного человека, но также и партийные основы. Бухарин очень сердобольный человек [48].
В кантовском смысле эта «сердобольность» (в котором можно расслышать отдаленное эхо ленинской реакции на «Аппассионату» Бетховена: не следует слишком часто слушать такую музыку; потому что она размягчает, после нее может появиться желание крепко обнять врага вместо того, чтобы его безжалостно уничтожить…), конечно же, оказывается остатком «патологической» сентиментальности, которая затуманивает чисто этическую позицию субъекта. И здесь, в этот ключевой момент, крайне важно воспротивиться «гуманистическому» искушению противопоставить безжалостную сталинистскую самоинструментализацию бухаринской естественной доброте, чуткому пониманию и состраданию общечеловеческой хрупкости, как будто проблема сталинских коммунистов коренится в их безжалостности, в самоустранении, самопожертвовании делу коммунизма, превратившему их в чудовищные этические автоматы и заставившему их забыть об общечеловеческих чувствах и сострадании. Напротив, проблема сталинских коммунистов заключалась в том, что они не были достаточно «чистыми», что их захватила перверсивная экономика долга: «Я знаю, что это тяжело и, может быть, мучительно, но что мне остается делать, таков мой долг…» Обычный девиз этической программы — «Нет оправдания невыполненному долгу!»; и хотя «Du kannst, denn du sollst!» («Можешь, значит, должен!») Канта на первый взгляд предлагает новый вариант этого девиза, имплицитно он дополняет его куда более жуткой инверсией: «Нет оправдания выполнению долга!» [49] Ссылку на долг как на оправдание наших действий следует отвергнуть как лицемерную: достаточно вспомнить всем известный пример с учителем–садистом, который мучает своих учеников беспощадной дисциплиной и пытками. Оправданием ему (и другим) служат слова: «Мне очень тяжело так поступать с бедными детками, но что мне остается, ведь таков мой долг!» Еще более уместным кажется пример сталинского коммуниста, который любит человечество, но совершает при этом чудовищные чистки и экзекуции», когда он этим занимается, сердце его разрывается, но он ничего не может поделать, поскольку таков его Долг перед Прогрессом… Мы сталкиваемся здесь с собственно перверсивным подходом приспособления позиции чистого инструмента Воли Большого Другого: я не несу за это ответственности, не я это делаю, я лишь инструмент высшей Исторической Необходимости… Непристойное наслаждение этой ситуацией порождается тем фактом, что я считаю себя оправданным за то, что делаю. Замечательная ситуация: я причиняю другому боль в полной уверенности, что не несу за это ответственности, а просто исполняю Волю Другого. Как раз это и запрещает кантовская этика. Эта позиция садиста–извращенца дает ответ на вопрос, как субъект может быть виновным, когда он просто действует в соответствии с налагаемой на него извне необходимостью? Субъективно допуская эту «объективную необходимость», он извлекает наслаждение из того, что ему навязано [50]. Итак, в своей самой радикальной форме кантовская этика не «садистична», она запрещает как раз–таки позицию десадовского исполнителя. О чем нам это говорит в связи с соответствующим статусом холодности у Канта и де Сада? Вывод к которому мы приходим, не в том, что де Сад привязан к жестокой холодности, в то время как Кант так или иначе оставляет место человеческому состраданию, но как раз в обратном: именно кантовский субъект совершенно холоден (апатичен), а садист недостаточно «холоден», его «апатия» фальшива, это — уловка, скрывающая всю страстную вовлеченность в наслаждение Другого. Ну и, конечно же, то же самое происходит при переходе от Ленина к Сталину: революционно–политическим контрапунктом «Канту с де Садом» Лакана будет несомненно «Ленин со Сталиным». Иначе говоря, только с появлением Сталина ленинский революционный субъект превращается в перверсивный объект- инструмент наслаждения Другого.
Давайте проясним это место, исходя из исторического и классового сознания» Лукача, его попытки развернуть философскую позицию ленинской революционной практики. Можно ли отбросить Лукача в сторону как защитника псевдогегелевского суждения, утверждающего, что пролетариат — это абсолютный субъект–объект истории? Давайте сосредоточимся на конкретном политическом фоне истории и классового сознания, о котором Лукач продолжает говорить как о целиком и полностью революционном. Говоря грубо и упрощенно, у революционных сил России в 1917 году, в трудной ситуации, в которой буржуазия оказалась неспособной положить конец демократической революции, оставался следующий выбор.
С одной стороны, позиция меньшевиков заключалась в подчинении логике «объективных стадий развития». Сначала демократическая революция, а уж потом революция пролетарская. В водовороте событий 1917 года вместо того, чтобы извлечь выгоду из постепенного разложения государственного аппарата и воспользоваться повсеместно распространенным недовольством Временным правительством, все радикальные партии должны были сопротивляться искушению продвинуть этот момент еще дальше и объединить усилия с демократически настроенными буржуазными элементами, чтобы прийти к демократической революции, терпеливо ожидая, когда созреет революционная ситуация. С этой точки зрения социалистический переворот в 1917 году, когда ситуация еще не созрела, интенсифицировал регресс к примитивному террору… (Хотя этот страх катастрофических террористических последствий «незрелого» восстания может показаться предвестником грядущего сталинизма, идеология сталинизма по сути дела отмечает возвращение к «объективистской» логике необходимых стадий развития [51].)
С другой же стороны, ленинская позиция заключалась в том, чтобы взять препятствие силой, броситься в парадокс ситуации, ухватиться за возможность, ввязаться в борьбу, даже если ситуация еще не созрела, делая ставку на то, что само это преждевременное вторжение радикальным образом изменит объективную расстановку сил, в рамках которой изначальная ситуация кажется незрелой, т. е. это вторжение подорвет само положение, заявляющее о незрелости ситуации.
Здесь нужно быть внимательным, чтобы не упустить суть вопроса. Дело не в том, что, в отличие от меньшевиков и скептиков среди большевиков, Ленин полагал, что сложная ситуация 1917 года, т. е. рост недовольства среди широких масс и нерешительная политика Временного правительства, предлагает уникальный шанс «перепрыгнуть» через одну фазу (демократической буржуазной революции), «сгустить» две необходимые последующие стадии (демократической буржуазной революции и революции пролетарской) в одну. Такое представление все еще допускает принцип, лежащий в основе «объективистской–овеществленной» логики «необходимых стадий развития». Оно просто обеспечивает различный ритм течения в тех или иных конкретных обстоятельствах (т. е. в отдельных странах вторая стадия непосредственно следует за первой). В отличие от этого позиция Ленина обладала большей строгостью: в конечном счете, нет объективной лотки «необходимых стадий развития», поскольку «сложности», вытекающие из путаницы конкретной ситуации и/или из непредвиденных результатов «субъективного» вмешательства, всегда нарушают прямой курс движения. Как Ленин сумел прозорливо усмотреть, факт колониализма и сверхэксплуатации масс в Азии, Африке и Латинской Америке оказывает радикальное влияние на «смещение» «прямой» классовой борьбы в развитых капиталистических странах. Говорить о «классовой борьбе», не принимая во внимание колониализм, — пустая абстракция, которая, будучи переведенной на практическую политику, может завершиться лишь оправданием «цивилизующей» роли колониализма и, тем самым, подчиняя борьбу с колониализмом в Азии «подлинной» классовой борьбе в развитых государствах Запада, де–факто соглашаясь с тем, что буржуазия определяет условия классовой борьбы… (Опять–таки здесь можно усмотреть неожиданную близость альтюссеровской «сверхдетерминированности»: нет основного правила, ссылаясь на которое можно было бы найти «исключения» — в актуальной истории в известном смысле мы имеем дело только с исключениями.) Здесь возникает искушение прибегнуть к терминологии Лакана: ставка в этой альтернативе сделана на (не)существование Другого: меньшевики полагаются на всеохватывающие основания позитивной логики исторического развития, в то время как большевики (или, по крайней мере, Ленин) осознают, что «Другой не существует» — собственно политическая интервенция не производится в координатах некой основной глобальной матрицы, поскольку она добивается как раз–таки «реорганизации» этой глобальной матрицы.