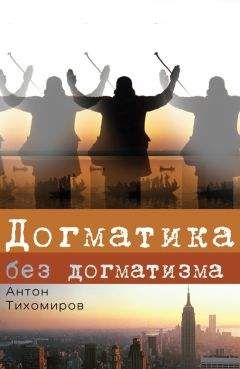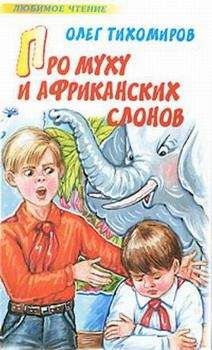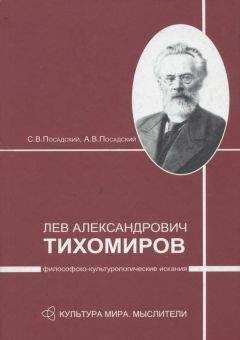Антон Тихомиров - Истина протеста. Дух евангелическо-лютеранской теологии
Церковь
Вероисповедание по-латински звучит confessio. Отсюда происходит русское слово «конфессия», которое обозначает отдельную христианскую Церковь, имеющую своим центром то или иное вероисповедание. Насколько применимо понятие конфессии к Лютеранской церкви? С одной стороны, лютеранство является ярко выраженной конфессиональной Церковью, поскольку в ее основе – и лютеранские теологи снова и снова подчеркивают это – лежит не что иное, как конкретный, письменно зафиксированный набор вероисповеданий. Однако сам характер этих вероисповеданий имеет настолько революционный, радикальный, «взрывной» характер, что конфессиональность Лютеранской церкви оказывается как бы преодоленной изнутри.
Чтобы лучше разобраться в этом, нам необходимо сначала понять, что же вообще протестантское вероучение понимает под Церковью. И здесь мы сталкиваемся с принципиально иным пониманием этого явления, чем то, что господствует в православии или католичестве.
Этот принцип, это кардинальное отличие православной или католической экклезиологии от протестантской состоит, на мой взгляд, в том, что для православного или католического теолога понятие «Церковь» куда уже, чем понятие «христианство». Церковь – это особая реальность, реальность совершенно особого рода, это некая мистическая связь со Христом, осуществляемая с опорой на определенные исторические институты внутри христианства, прежде всего на восходящий к апостолам епископат и зависимое от него священство. Церковь поэтому – куда более специфическое понятие, чем сообщество всех верующих во Христа. Есть люди, верующие во Христа, но при этом непричастные благодатной реальности Церкви. Церковь понимается как своего рода мистический организм с человеческими и Божественными элементами. Православный богослов, например, не может считать протестантов участниками Церкви. В лучшем случае он скажет, что их причастность Церкви неполна и ущербна.
В православном или католическом богословии получается, что Христос основал Церковь, чтобы в ней могли существовать таинства, Церковь является условием для подлинного возвещения Слова Божьего и преподавания таинств, без Церкви все это невозможно. Таинства и проповедь как бы произрастают из Церкви, как ветки – из ствола дерева. Церковь является своего рода хранилищем и источником благодати. В таинствах и священнодействиях посредством священников и епископов, но также и многими другими путями эта божественная благодать, божественные энергии передаются верующим, наполняют и постепенно преображают их. Участие в Церкви – это реальная (хотя и осуществляемая незримым, мистическим образом) причастность Христу.
На мой взгляд, однако, к этому же типу представлений о Церкви, в сущности, можно отнести и целый ряд учений, встречающихся среди сект или даже вполне респектабельных христианских конфессий, которые ограничивают Церковь («истинную Церковь») только кругом тех, кто принимает определенные вероучения, исполняет определенные обряды или ведет определенный образ жизни, то есть – что важно – сужает понятие Церкви по сравнению с понятием «христианство».
Иначе обстоит дело в лютеранском богословии. Основополагающим текстом в лютеранском понимании сущности Церкви является 7-й артикул Аугсбургского вероисповедания. В нем сказано: «Церковь – это собрание святых, в котором Евангелие преподается в чистоте, и таинства совершаются в соответствии с Евангелием»[17].
То есть в лютеранстве Церковь – это не какая-то особая реальность. Не какая-то реальность своего рода, важная сама по себе. Христос, по сути дела, учреждает не Церковь, как таковую, а учреждает проповедь Своего Слова и связанные с этой проповедью таинства, а те люди, которые оказываются вовлечены в эти процессы проповеди и преподавания таинств, и составляют Церковь. В этом смысле проповедь и таинства первичны по отношению к Церкви.
Церковь поэтому не обладает никакой самоценностью. В ней самой по себе нет никакой особой благодати. Церковь не выступает посредницей в деле спасения. Участие в Церкви – это не условие спасения. Точнее говоря: Церковь – это собрание уже спасенных. Точнее, Церковь – это те люди, кто стали причастны Слову и таинств. Поэтому опять же, согласно Лютеру, Церковь в протестантской экклезиологии справедливо называется creatura verbi или creatura Evangelii – творение Слова или творение Евангелия. Церковь там, где Слово Божье. Церковь возникает вокруг этого Слова. Церковь – это не некая мистическая реальность, не хранилище благодати, а собрание людей, слушающих это Слово. Церковь – это люди, увлеченные Словом Божьим. Все их внимание должно быть сосредоточено не на себе самих, а на Слове Божьем, на Евангелии. Поэтому в протестантских догматиках Церкви уделяется столь мало внимания. Церковь – это просто собрание слушающих Слово Божье.
Однако не только слушающих. Ведь Слово Божье нуждается и в провозглашении. И это провозглашение тоже осуществляется через людей – членов Церкви. Таким образом, Церковь – это собрание людей, слушающих и провозглашающих Евангелие, Слово Божье. Иными словами, Церковь – это собрание людей, вовлеченных в многостороннюю коммуникацию Евангелия.
И, как мы с вами уже знаем, такая коммуникация есть нечто большее, чем просто обмен информацией. Это само осуществление, актуализация Евангелия. Отсюда неизбежность и важность Церкви. Там, где происходит коммуникация Евангелия, там неминуемо возникает и Церковь. Поэтому истинным будет утверждение, что возвещение Евангелия невозможно себе представить без Церкви, но не потому, что лишь Церковь делает такое возвещение возможным или правомочным, а потому, что люди, возвещающие и воспринимающие Евангелие, становятся уже самим фактом своего участия в этом процессе членами Церкви. В этом смысле можно сказать, что Церковь имеет скорее не институциональный, а событийный характер. Церковь в своем самом исконном, самом глубоком смысле этого слова означает не организацию, не общественный институт, не мистическую реальность, а событие – событие коммуникации Евангелия. Здесь можно вспомнить о греческом слове, употребляющемся в Новом Завете для обозначения Церкви, – экклесия, то есть собрание. Собрание же есть скорее событие, чем некий институт.
Церковь там, где происходит коммуникация Евангелия. При этом коммуникация – это, как уже сказано, всегда двух – или даже многосторонний процесс. Никогда не бывает того, кто только возвещает, и того, кто только слушает. Каждый верующий – хочет он того или нет, желает он того или нет – является в этом процессе активной стороной. Разница в активности между слушающими и возвещающими носит лишь количественный, а не качественный характер. Здесь истоки важного для протестантизма учения о всеобщем священстве верующих. Всякий верующий человек является священником в том смысле, что он непосредственно соприкасается с Богом в Его откровении и призван нести это откровение другим людям. Все верующие обладают равным, одинаковым статусом. Ни у кого нет никакой особой «благодати». Каждый в той или иной степени может и должен участвовать в коммуникации Евангелия. Даже не «может и должен», а он просто не может иначе: если что-то меня захватило, как я могу не говорить об этом?
То, что в Церкви все же есть пасторы и иные служители, – лишь вопрос удобства организации церковной жизни, вопрос церковного порядка. Ведь всякий процесс – в том числе и процесс коммуникации Евангелия – должен быть упорядоченным. Пастор – это не тот, кто обладает эксклюзивными духовными возможностями или правами для совершения проповеди и таинств. Пастор, в сущности, – это тот, кто несет ответственность за организацию коммуникации Евангелия между членами конкретной христианской общины, и тот, кто руководит такой коммуникацией.
Евангелие провозглашается, осуществляется в процессе человеческой коммуникации. Однако в процессе такой коммуникации Евангелия неизбежно возникают и его искажения. Носители коммуникации, люди, всегда ограниченны, несовершенны, подвержены греху. Помнить об этом очень важно. Неслучайно Лютер подчеркивал, что Церковь является величайшей грешницей. Церковь неизбежно грешит против того, что составляет саму ее сущность. В процессе своего провозвестия и его восприятия она становится преступницей против того, что она возвещает.
Эта греховность Церкви проявляется и на более простом и практическом уровне. Церковь – не Царствие Божье, в ней бесполезно и бессмысленно искать идеал. Человеческое несовершенство и греховность проявляются в церковной жизни ничуть не меньше (а порой, может быть, даже и больше), чем в жизни других человеческих организаций. Но все же Церковь принципиально отличается от всех остальных человеческих институтов. Отличается именно своим упованием на то, что лежит вне ее, упованием на евангельскую весть о прощении и спасении от Бога.