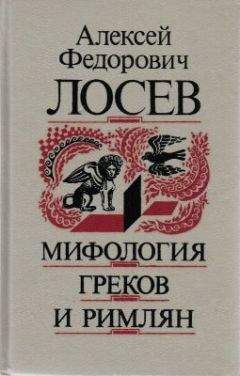Алексей Лосев - Античный космос и современная наука
Итак, предметно–символическая феноменология чтойности должна служить коррективом ко всем тем трудам, которые, правильно изображая участие разума в знании и справедливо сближая психологию Аристотеля с платонизмом (напр., А. Казанский. Учение Аристотеля о значении опыта при познании. Одесса, 1891), все же не учитывают всего антипсихологистиче–ского пафоса аристотелизма; так, по Казанскому, «в сходстве… с учением Платона и следует… искать ключа для понимания его общего определения природы разума», 340, ср. 407—415, но синтез разума и чувственности трактуется все–таки довольно неопределенно, то как «возможность мыслимых предметов», 351, то как наличие «общего», которое почему–то трактуется совершенно антиаристотелевски — как «преимущественное достояние только субъекта», 411, в «единичных вещах», 410— 414, как будто бы только «единичные вещи» требуют для себя опытной подосновы. Вроде этого рассуждает и Ф. Зелиногорский, по которому «Аристотель мыслимым и познаваемым разумом называет, то же, что называет и Платон» (Учение Аристотеля о душе в связи с учением о ней Сократа и Платона. Журн. Мин. нар. проев. СПб., 1871, 156–я часть, 261), но, тем не менее, «у Аристотеля… всюду заметно стремление объяснить душевные явления… в связи с законами физиологическими» (275). Такие неожиданные заключения вполне объяснимы тем, что эти иссле¬дователи не уясняют себе всей глубины зависимости Аристотеля от Платона, хотя сами же и говорят об этой зависимости. Аристо¬тель отличается от Платона вовсе не тем, что «Платон был скорее человеком увлекающимся… Аристотель же… был более челове¬ком положительным» (Казанский, ор. cit., 410; — хорошенькое мнение о «положительности»! — А. Л.), и вовсе не тем, что он «полагает… за устой жизни не неизменное, неподвижное и недеятельное, а деятельность, которая совпадает у него с дейст¬вительностью» (А. Н. Гиляров. Философия в ее существе, значе¬нии и истории. Киев, 1918. I 200). И вовсе не в том основная ошибка Аристотелева учения о категориях, что он „in statuendis categoriarum formis modo hanc, modo illam partitionis viam et rationem secutus sit“ //при установлении категориальных форм руководствовался то одним, то другим способом и принципом разделения (лат.).// (A. F. C. Kersten. Quo iure Kantius Aristotelis categorias rejecerit. Progr. Berl., 1853, 9). И в учении о познании, и в категориях, и в проблеме общего и частного, и в проблеме единства — отличие Аристотеля от Платона лежит не в сфере интуитивизма, не в сфере объективизма, не в сфере энергизма и эманатизма, религии, символизма, «реализма» и «идеализма», но исключительно в сфере логики: Платон диалектика, Аристотель — формальная логика. Во всем осталь¬ном наметить существенное расхождение совершенно не удается. Разумеется, если, подобно Е. Rolfes (Die Philos, d. Aristot. Lpz., 1923, 53— 59), третье начало (между эйдосом и материей) признавать только становящимся, равно как и «зависимость мышления от опыта» (43—46) мыслить, по Аристотелю, лишь в плоскости абстрагирующей деятельности рассудка или, подобно A. Gôrland (Aristoteles u. Kant. Giessen, 1909, 478—479, ср. 464— 517; Philos. Arb. hrsgb. v. H. Cohen u. P. Natorp. II 2), думать, что Аристотель — смесь интеллектуализма и сенсуализма, интерес¬ная, может быть, только в качестве учения о восприятии как „Anlassbedingung der Erkenntniss“, то будет прав и Sentroul (бр. cit., 62—65), что v Аристотеля „іі n’y a de vérité logique que dans le jugement“// непременном условии познания (нем.)… нет логической истины в суждении (фр.).//, и F. Kampe (Die Erkenntnisstheorie d. Aristot. Lpz., 1870, 327—328), впадающий в скользкое аналоги–зирование Аристотеля с Локком, и мы никогда не выберемся из тупика субъект–объектного противостояния и пснхологистнческой метафизики, в котором барахтается значительная часть исследователей и в их числе, в последнее время у нас, П. Попов, дающий в своей статье «Теория восприятия Аристотеля» («Мысль», Петерб. 1922. Ill) донельзя упрощенное психологисти¬ческое понимание Аристотеля. Правильно отметивши, что, по Аристотелю, «душа потенциально заключает в себе полноту всех форм» (101), он трактует «форму» насквозь субъективи¬стически–психологистически (напр.: «актуально они, [объекты), налицо по существу в субъекте», «с этой точки зрения нечто черное является черным не само по себе, а для воспринимающего субъекта», 103) и, еще грубее, ставя не существующую для Аристотеля дилемму: «Реальное вйдение какого–нибудь опре¬деленного цвета есть то же, что этот самый видимый цвет, но что это — два различных проявления, лишь вполне сходные между собою или просто единый целостный момент, одно, реально единое состояние? Если это два нумерически раздельных момента, то концепция будет наивно реалистическая, удвояющая ощущение; если это единый момент, то он будет принадлежать лишь субъективно–чувственной способности души». Для П. По¬пова существует выбор только между метафизическим дуализ¬мом («вещь в себе» никак не является, и явление ее не есть проявление) и абсолютным психологистическим субъективизмом (когда то, что мы знаем о вещи, есть наш субъективный про¬цесс), т. е. в сущности нет никакого выбора, ибо в первом случае последней инстанцией опять–таки является все тот же субъект. Так, известное место из De ап. III 2 425b 25—27, ср. 426а 10—11, 15—16, об энергийном, т. е. смысловом, тождестве предмета и акта восприятия и о фактически–бытийственном (τό είναι) их различии (ср. у нас 442 стр.) он склонен понимать так, что вся предметно–выразительная, идеальная «потенция» растворяется у него в «своеобразном творчестве души» (107). В сущности это — единственное место, приводимое автором в защиту теории «удвоения ощущения», и жаль, что автору «сейчас неуместно пускаться в филологические толкования» (106) этого места. Вопрос о τό είναι в этом месте, правда, не есть филологический (филологов тут надо гнать прочь), но в философские толкования я бы «пустился». Во всяком случае, это не просто чувственное или вообще существование, насколько можно так заключить из неясного комментария автора, но скорее действительно ка¬кая–то „natura“ (о чем также неясно говорит Тренделенбург, — хотя по поводу аналогичного текста в De an. II 12, 424а 25 он, Аг. De ап., 1833 , 415, рассуждает несколько иначе: „…vercor, ne τό είναι ad notionem potius generalem relatum parum conveniat“) или даже, как выражается латинский переводчик у Didot (III 463): „…at earum ratio non eadem est“ (хотя тут передано собст¬венно τό, а τό είναι я бы уже перевел тогда по–латыни „ratio essendi“), что, конечно, еще не обязывает нас согласиться с но¬вым переводчиком Е. Rolfes (Аг. Seel. 1922, 67: ihrem begriffichen Wesen“), путающим, очевидно, это выражение с «чтойно–стью» (которую он тоже переводит, напр., в Met. 1920, 134: „das wesentliche Sein“ //природа… опасаюсь, как бы τό είναι, отнесенное к более общему выражению, не оказалось малоподходящим… но способ их не один и тот же… способ бытия (лат.)… их категориальная сущность… сущностное бытие (нем., лат.).//). Конечно, не один П. Попов оставляет этот текст в сыром виде. Ему в спутники я предложил бы, напр., Е. Wallace, который, Аг. Psych., 256, также отделывается не¬хитрым комментарием: „…different aspects of one and the same set of facts“ //различные аспекты одного и того же набора фактов (англ.).//. Но это и значит отказаться от понимания De an. III 2, 425b 25—27. Впрочем, если автор по поводу потенции до восприятия спрашивает: «Какое право говорить вообще о по¬тенциально существующем… раз мы его никак не воспринима¬ем?» (108) и если не только Аристотелева теория зрения есть «картина, конечно, совершенно наивная и догматичная» (107), но наивной теорией отображения даже «характеризуется вся эпоха средневековья в своих значительнейших этапах» (98), то исследование П. Попова едва ли можно считать благополучным. Жаль, что автор, избравший образцом своих построений Уфуэса, не усвоил взгляда, который формулирован им очень резко, напр., в следующем месте: „Soli damit unterschieden werden zwischen Eigenschaften, die das Ding schon vor der Wahrnehmung aktuell besitzt, und Eigenschaften, die es erst durch Einwirkung der Wahrnehmung erhalt, so miissen wir betonen, dass es Eigen¬schaften der letzeren Art nach Aristoteles nicht giebt, wenigstens keine wirklichen Eigenschaften der Dinge, wie es unzweifel–haft nach ihm die Farben sind“ //Если, таким образом, провести разграничение между свойст¬вами, которыми актуально обладает предмет еще до восприятия, и свойст¬вами, которые он приобретает вследствие воздействия восприятия, то сле¬дует подчеркнуть, что, по Аристотелю, свойств второго рода не сущест¬вует, по крайней мере никаких действительных свойств предмета, како¬выми для него несомненно являются цвета (нем.).// (G. K. Uphues. Psychologic des Erkennes vom empirisch. Standp. Lpz., 1893, 274). Если это так, то еще остается (кроме субъективизма) выход к структурной теории воспринимаемой предметности, теории, независимой от тех или иных психологических процессов в субъекте. Или же — действительно полный и окончательный субъективизм, ибо что же такое вещи и зачем они нужны, если все вещное — пси–хично и акт восприятия тоже ничего не находит объективного в вещах? Аристотель — не субъективный идеалист, как к тому склонялся Шопенгауэр (LJber d. vierf. Wurz. d. Satzes v. zureich. Gr. у Griesebach. Reel., 160), не сенсуалист (ср. Schopenhauer, Parerga u. Paralip., ibid. I 61), и не так уже не прав H. Schreiber, упрекающий Шопенгауэра в непонимании Аристотеля (Schopen¬hauers Urteile uber Aristoteles. Diss. BresL, 1905, 48—51), хотя я далек от того презрительного отношения к Шопенгауэру, которое развивается в книге Шрейбера от начала до конца. Аристотель — строжайший объективист, причем «объект» его есть понятие, организованное как символ.