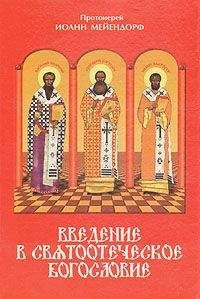В. Вейдле - Зимнее солнце
И все я помню, через шестьдесят пять лет, как он окликнул меня снизу, через этаж иа школьной лестнице «Володя!», чтобы сообщить мне приятную для меня веоть. Прозвища мои были ему неизвестны; никто, кроме него, этим простым уменьшительным именем меня не звал. Было это перед самым окончанием училища. Он уже три года, как нам не преподавал, но учаотвовал в комиссии, оценивавшей наш экзаменационные «оочинения» по русской литературе. «Володя», оказал ои мне, на лестнице меня догнав, и обращаясь ко мне на ты, чего другие учителя уже не делали, «мне следовало бы молчать, узнаешь завтра, но ты получил пятерку, твое оочинение — лучшее», и ои крепко меня обиял. Радость его была подлинна; была чище и выше, чем моя.
Третий учитель, математик Пшелясковокий, совсем не похож был ни на второго, ни иа первого. Он появился у нас лишь в седьмом клаосе, где все математические предметы переключены были на русский язык, для облегчения подготовки к экзаменам (конкурсным) в соответственные высшие школы. Благообразием не отличался, пальцы у него были темио–ржавые от табака, любил отпуокать колкие, не совсем и пристойные порою шуточки; зато основы аналитической геометрии и дифференциального исчисления так остро и живо излагал, и сообразительность нашу на испытание ставил так искусно, что я словно очнулся, проспав до тех пор шесть лет, и стал проявлять полностью отсутствовавшие у меня, как я думал, математичеокие способности. Каким‑то чудом этот бесцеремонный и «быстрый разумом» поляк вселил их в меня, пусть и иа короткий срок; да он мне и впрямь казался — такого пошиба людей я еще не встречал — единственным в своем роде чудодеем. В нашем классе произвел он наотоящий катаклизм. Многолетний первый ученик был им высмеян и объявлен тупицей. «Помнить или забыть — говорил он — зка важность; я вас учу мозгами шевелить». И действительно, учил -г тех, кто были способны этому учиться. Других не желал и спрашивать, ставил им сплошные тройки, чтобы не лишить их права держать выпускные экзамены. Мне же, после окончания школы, оказал высокую честь. Кто‑то сказал ему, что я поступаю на филологичеокий. «Туда ему и дорога» буркнул он злобио. А потом прибавил другим тоном: «Я думал, иа математичеокий пойдет».
Товарищи
«Товарищ» — я люблю это слово. Не испорчено оио для меня безостановочно–механическим повторением его в некоторых странах. Но я и прежде его любил только в единственном числе; во множественном оно мне безразлично, и тем безразличнее, чем множественней зта множественность. Вое ученики Реформатского училища были, конечно, мои товарищи, но солидарность мою с товарищами по классу я сознавал, все‑таки (особенно в первые школьные годы) значительно острей: недаром отказался променять моих товарищей на новых. Но чем дальше, тем и это «класоовое оознание» вое больше во мне ослабевало. Слишком много нас было, человек 25. Маленькая группа в пять–шесть человек скорей бы меня горячей солидарности научила, но таких «ячеек» вовое у иас и не было. Да и не был я от природы ни вожаком, ни покорным исполнителем воли другого вожака. Кружковщина, всяческая, и позже была мне чужда, а в школе и бороться мне с ней не приходилооь, — тем более, что пропагандой каких‑нибудь идеологий — революционных или чернооотенных, например — никто у нас, даже и в старших классах, наоколько мие было известно, не занимался.
Так что у меня, среди товарищей, были отдельные товарищи, товарищи в единственном, каждый раз, числе; которые между собой вовое особенно и не дружили, а со мной были связаны приятельством или дружбой другого, каждый раз, оттенка. Четверо их было: двое более близких, постоянных товарищей моих и друзей, и двое, с которых начну, более отдаленных, или краткосрочных.
Первым, по времени, был Рома Брунс; не Романом его звали: его редкое германское имя было Ромо. Мальчик это был благовоспитанный и миловидный, застенчивый, розовощекий, не без девического чего‑то в тонких чертах продолговатого лица. Учился неважно, я ему помогал. Драться не умел, я его защищал от драчунов, бранивших его, как в таких случаях полагается, «девченкой». На переменах мы чаще всего прохаживалиоь вместе, причем я имел обыкновение слегка сжимать правой рукой его затылок, — а то и посильней: рукой этой его душить. Сопротивлялся он редко; был кроток, слушался меня охотно; к очастыо, однако, главным образом для меня, дружба наша через два–три года стала сама собой охлаждаться, и я в эту роль покровителя, да еще и душителя, полноотью не вошел. А затем и отстал Рома от нас, на второй год был оставлен, в пятом, кажется, классе. Последнее мое воспоминание с ним связанное — день рождения его шестнадцатилетней, показавшейся мне совершенной красавицей, сестры, которой братец, шутя, поднес, розовой лентой его повязав, флакон касторового масла. Этот дьявольокий медикамент она считала отборным лакомством. Жили они на Невском, близ Александровского сада. Но я, помнится, у них и был только этот один раз.
Другой одноклассник мой, Игорь Миклашевский, лишь за последние два школьных года стал моим приятелем. Мы сидели о ним на одной парте и отстукивали друг у друга на спине лейтмотивы вагнеровских опер, отнюдь их при зтом не напевая: во–первых потому, что игра эта происходила во время уроков, а во–вторых, потому, что и состояла она в угадывании лейтмотивов по одному их ритму и темпу, к которому мы примешивали, правда, (хоть и не всегда) еще и разность расстояния между клавишами, при игре на рояле, которой мы оба обучалиоь, — он намного успешней, чем я. Мечта его была — поступить в Консерваторию, стать дирижером. Ои и дирижировал, в полном уединении, дома, стоя за пультом и переворачивая одну за другой страницы партитур. Читать их он уже умел; был у него и абсолютный слух. Если не погиб на войне, или пооле войны, наверное стал музыкантом.
Но теперь, ш покуда я его из виду не потерял, был адептом не столько музыки, сколько вагнеровской музыки. Однажды, в то лето, когда его родители снимали дачу там же, где у иас была своя, он причалил к нашему берегу речки, отоя в рыбачьем челне и гребя одним веслом. Изящно прыгнул на ступеньку пристани и поднес сидевшей тут же на скамейке моложавой даме (потерявшей голос певице Мариинского театра) сорванный на другом берегу ландыш. Она воскликнула: «Прямо Лоэнгрин!»
Из двух лучших товарищей моих, раньше был мной обретен и раиьие, еще до войны, исчез с моего горизонта, поляк Еже Корчак, называемый Жоржем, краснощекий крепыш с открытым лицом и смелым взглядом карих глаз. У него был брат, Манюсь, на год младше, а потому и не в нашем классе, который вызывал у меня жалость: отчасти оттого, что дразнили его «Манькой», но более оттого, что говорил он «дод» вместо «год» и «тот» вместо «кот», так что по–немецки заменял голову горшком,«топф» вместо «копф», над чем товарищи его — вот где слово «товарищ», при множественном числе, обнаруживает свой яд — глумились усердно и неустанно.
Манюся, избавившегося впоследствии от своего недостатка речи, я впрочем, знал лишь потому, что бывал иногда у его брата. Они были сироты, их воспитывали две тетки, старые девы, служившие где‑то на грошевом жалованье. Жили в тесной плохонькой квартирке, где, однако, грязи никакой не было: Жорж сам помогал квартиру убирать, сам стирал белье, свое и брата, с четвертого класса зарабатывал деньги, давая уроки несмышленым малышам. Вел себя, вообще, героически: вставал засветло, тщательно готовил уроки, вникал во все классные объяснения учителей, не терял времени ни на какие пустяки, был всегда опрятен, костюмчик берег — формы у нас в школе не было — выростая из него, продолжал его носить и проявлял большое воздержание в пище, даже когда гостил у нас, дабы не приучаться к многоядению, — чем огорчал мою мать, но вызывал уважение отца — не чуждого угрюмству, да и ворчливого порой — но который добродетели этого рода понимал всего лучше и сочувствовал им всего глубже, хотя смолоду нужды вовсе сам и не иопытал.
Жорж был католик и горячий польский патриот. Когда мы спали в одной комнате зимой на даче, я видел как он неизменно перед сном становилоя иа молитву. Защитников польской свободы, Костюшку и других, свято почитал. Со мной, однако, на такие темы разговора не заводил; любил меня искренне, дружил со мной теснее чем с польскими друзьями, доверие мне оказывал, искал моего совета, поверял мне даже — по старинному выражаясь — «тайны своего сердца», тогда как я своих никогда никому не открывал. — Когда мы стали подрастать, начались для Жоржа большие испытания.
Он был влюбчив, и все кралечки его были русские; а убеждения, которых так твердо он держался, позволяли ему с русокими дружить, но жениться на русской запрещали. «А если без женитьбы?» — «Что ты говоришь! Ей пятнадцать лет!»
Помню его рассказ о том, как он, провожая эту старшую сестру Лолиты и поднимаясь с ней на лифте на пятый этаж, иопытывал адские муки от желания ее поцеловать. Но так, «не солоно хлебавши», и спустился один вниз, хотя воздушное это существо ему, по–видимому, благоволило. Наконец, найдена была полечка, красотка каких мало! Чтобы мне ее показать, Жорж — мы были уже взрослыми — пригласил меня на спиритический сеаис к людям мие вовсе незнакомым. Спиритизмом я не интересовался. Он уговорил меня прийти, усадил рядом со своей почти–невестой, за круглый стол, и, когда потушили свет, она нежно приложила свою щеку к моей и ножкой пожала мою ногу. Соблазн был велик. Если я ему не уступил, то лишь потому, что Жорж был не кто‑нибудь, а Жорж. До сих пор жалею, что не уступил. Жалею — и не жалею.