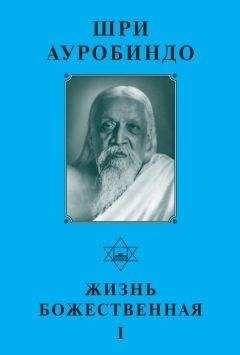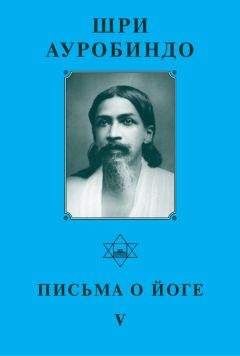Шри Ауробиндо - Шри Ауробиндо. Тайна Веды
Возвращаясь, таким образом, от искусственного использования речи в современном языке и приближаясь к естественному использованию примитивной речи нашими древними праотцами, мы получаем две важные вещи. Мы избавляемся от идеи условной жесткой связи между звуком и его смыслом, и мы осознаем, что определенный объект выражается определенным звуком, по той причине, что нечто в нем, некое особое и заметное действие или черта, которая выделила этот объект для ума древнего человека, подсказали именно этот звук. В отличие от нашего изощренного современника древний человек не говорил себе: «это кровожадное, хищное животное на четырех лапах, из рода собачьих, охотится в стае, в моем уме ассоциируется с Россией, с зимой, со снегом, со степями»; у древнего в уме было куда меньше идей касательно волка; его не заботили идеи научной классификации животного, а скорее идеи физического факта своего контакта с волком. И именно этот наиважнейший физический факт он выбрал, когда крикнул спутнику фразу даже не «здесь волк!», а просто «этот терзатель!», ayaṁ vṛkaḥ. Остается открытым вопрос – почему именно слово vṛkaḥ, больше чем какое-то другое, подсказало идею растерзания. Санскритский язык уводит нас на шаг в прошлое, но это отнюдь еще не последний шаг, показывая, что нам следует иметь дело не со сформировавшимся словом vṛkaḥ, но со словом vṛc, с корнем, лишь одним из нескольких ответвлений которого является vṛka. Ибо вторая иллюзия, от которой мы избавляемся, это современная связь развитого слова с каким-то точным оттенком идеи, привычным для нас именно в его выражении. Слово delimitation и сложный смысл, передаваемый им, спаяны для нас воедино, нам нет нужды помнить, что оно происходит от limes – граница, а единый слог lime, составляющий костяк слова, сам по себе не содержит для нас фундаментальную суть смысла. Но, на мой взгляд, можно показать, что даже в ведийские времена люди, употребляя слово vṛka, прежде всего держали в уме смысл корня vṛc, и именно корень, по их складу ума, был жесткой, фиксированной, значимой частью речи, поскольку производное от него слово было еще текучим и употребление его зависело от ассоциаций, пробуждаемых этим корнем. Если это так, то отчасти мы уже видим, отчего слова оставались текучими по смыслу, варьируясь в зависимости от конкретной идеи, пробуждаемой звучанием корня в восприятии говорящего. Мы также видим, отчего сам корень был текуч, не только по смыслу, но и по употреблению, отчего даже сформировавшееся и развитое слово столь неясно различалось по употреблению в качестве существительного, прилагательного, глагола или наречия, отчего оно было недостаточно жестким и определенным, отчего так смешивались слова даже в Веде, на сравнительно поздней стадии развития речи. Мы постоянно обращаемся к корню как к определяющей единице языка. В том конкретном исследовании, которое мы ведем – в поиске основы для науки о языке, – мы совершаем чрезвычайно важный прорыв. Нам незачем выяснять, почему vṛka означал терзателя; вместо этого мы должны понять, что корень vṛc значил для древних носителей арийской речи и почему он имел данное значение, которое мы в нем обнаруживаем. Нам не надо спрашивать, почему dolabra на латыни значит «топор», dalmi на санскрите означает «гром Индры», dalapa и dala употребляются для обозначения оружия, почему dalanam значит «сокрушающий» или почему в греческом delphi – это имя, даваемое местам, изобилующим пещерами и оврагами, – нам достаточно ограничиться изучением природы первоначального корня dal, плодом которого являются все эти разные, но родственные слова. Дело не в том, что отмеченные вариации не имеют значения – просто их значение носит не существенный, а вспомогательный характер. На самом деле, историю происхождения речи можно разделить на две части: эмбриональную, изучение которой безотлагательно и имеет первостепенное значение, и структурную, менее важную, а потому могущую быть отложенной для последующего и дополнительного рассмотрения. В первой части мы отмечаем корни речи и выясняем, каким образом vṛc стало обозначать «терзать», dal – «раскалывать или сокрушать», произошло ли это произвольно, или это действие некоего закона природы; во второй части мы отмечаем модификации и дополнения, при помощи которых эти корни выросли в развитые слова, группы слов, семьи слов и роды слов, и отчего эти модификации оказывают существенное воздействие на смысл и употребление слов, почему окончание ana превращает dal в прилагательное или в существительное, в чем источник и смысл различных окончаний – ābra, bhi, bha, (del) phoi, (dal)b hāh, ān (греческое on) и ana.
Эта первостепенная важность корня над сформировавшимся словом в древней речи является одним из тех скрытых фактов, пренебрежение которыми стало чуть ли не главной причиной несостоятельности филологии, как науки в строгом смысле. Мне кажется, что первые филологи, занявшиеся сравнительными исследованиями, допустили роковую ошибку, когда введенные в заблуждение главным сосредоточением на сформировавшемся слове, они ухватились, как за ключ, за соотношение pitā, pater, pater, vater, father как за mūlamantra[292] своей науки и принялись выводить из него всякого рода разумные и неразумные заключения. Подлинный ключ, подлинное соотношение надо искать в другом ряде – dalbhi, dalana, dolabra, dolon[293] , delphi, который ведет нас к общему материнскому корню, к общим семьям слов, к общим родам слов, к родственным организациям слов или языкам, как мы их зовем. А будь также замечено, что во всех этих языках dal означает еще и «притворство или мошенничество», и имеет и другие схожие или родственные значения, будь предпринята какая-то попытка найти причину, по которой один звук обладает этими различными значениями, возможно был бы заложен фундамент настоящей науки о языках. Возможно, мы бы заодно открыли настоящие взаимосвязи древних языков и общий менталитет так называемых арийских народов. Мы находим в латыни dolabra – «топор», а в санскрите и в греческом нет соответствующего слова для обозначения топора; выводить отсюда, что арийские предки до расселения их племен еще не изобрели или не позаимствовали топор в качестве боевого оружия, значит забраться в дебри пустых и туманных домыслов и поспешных умозаключений. Но когда мы уяснили себе, что dolabra в латыни, dolon в греческом, dala, dalapa и dalmi в санскрите являются свободно развившимися производными от dal – «раскалывать» и все они используются для обозначения какого-то вида оружия, мы обретаем плодотворную и ясную уверенность. Мы видим действие общей или изначальной ментальности, мы видим кажущиеся свободными и хаотичными, но на самом деле упорядоченные процессы образования слов; мы видим также, что не наличие тождественных сформированных слов, а выбор корня и одного из нескольких образований того же корня для выражения определенного предмета или идеи был секретом как элемента общности, так и большой, свободной вариантности, действительно наблюдаемых нами в словаре арийских языков.
Я рассказал достаточно, чтобы пояснить характер поиска, который я намерен провести в данной работе. Его характер с неизбежностью возникает из самой природы стоящей перед нами проблемы: процесса рождения и формирования языка. В естественных науках мы имеем дело с простым и однородным материалом для исследования, ибо сколь бы ни были сложны силы и составляющие процесса, все они относятся к одной природе и управляются одним классом законов; все составляющие есть формы, развившиеся в результате колебаний материального эфира, все силы есть энергии этих колебаний эфира, которые либо соединились в составляющие формы объектов и действуют внутри них, либо свободно воздействуют на объекты извне. В науках же ментальных мы сталкиваемся с разнородным материалом, с разнородными силами и действиями сил; вначале нам приходится иметь дело с физическим материалом и средой, чья природа и действия сами по себе не представляли бы особых трудностей для исследования, достаточно упорядоченных в действии, если бы не второй элемент, ментальный фактор, действующий внутри и воздействующий извне на свою физическую среду и материал. Мы видим летящий крикетный мяч, мы знаем элементы движения и статики, которые действуют в полете и влияют на полет, и без особого труда можем или рассчитать, или прикинуть не только в каком направлении продлится полет, но и куда упадет мяч. Мы видим летящую птицу – это такой же физический объект, как мяч, движущийся в той физической среде, но нам неизвестно ни направление полета, ни место, где птица сядет. Материал тот же – физическое тело, среда та же – физическая атмосфера, в известной степени та же и энергия – физическая энергия праны, как она именуется в нашей философии, присущая материи. Однако этой физической силой овладела другая – не физическая, действующая в ней и воздействующая на нее, осуществляющая себя через нее, насколько это позволяет физическая среда. Речь идет о ментальной энергии, и ее присутствия достаточно, чтобы изменить чистую или молекулярную праническую энергию, которую мы наблюдали в мяче, в смешанную или нервную праническую энергию, наблюдаемую в птице. Но если бы мы сумели так развить наши ментальные восприятия, чтобы прикинуть или рассчитать силу нервной энергии, ведущую птицу в момент полета, мы все равно не могли бы определить его направление или цель. Причина в том, что вопрос не только в различии между энергиями, но и в различии фактора силы. Действующая сила здесь – это ментальная энергия, обитающая в чисто физическом объекте, энергия ментальной воли, которая не просто находится в объекте, но и обладает известной свободой. В полете птицы есть некая намеренность, если мы в состоянии ее воспринять, то можем и вынести суждения о том, полетит ли птица дальше или она сядет, при условии, конечно, что ее намерение останется неизменным. И крикетный мяч был брошен с участием определенной ментальной силы, с неким намерением, но та сила находилась вне мяча, а не обитала в нем, поэтому мяч, будучи запущен в определенном направлении и с определенной силой, не может изменить направление или превысить силу, если только его не повернет или не подтолкнет новый объект, встреченный в полете. Сам по себе мяч не обладает свободой. Птицей тоже руководит ментальная сила, несущая намеренность, она задает ей определенное направление при определенной силе нервной энергии в полете. Если ничего не меняется в ментальной воле, направляющей птицу, ее полет, вероятно, можно рассчитать и определить, как полет мяча. Птицу тоже может повернуть некий встреченный ею объект – дерево, или опасность на пути, или что-то заманчивое в стороне от пути, но ментальная воля живет в самой птице, можно сказать, что воля свободна выбирать, желает ли она свернуть в пути или нет, будет ли она продолжать полет или нет. Но воля свободна и полностью изменить изначальную намеренность без всяких внешних причин, увеличить или уменьшить выброс нервной энергии в действии или же употребить ее на движение в направлении той цели, которая совершенно чужда начальному намерению. Мы можем изучать и оценивать физические и нервные силы, используемые ею, но не можем создать науку о полете птицы, если не проникнем за материю и материальную силу, если не изучим природу этого сознательного фактора и законы – коли таковые существуют, – которые определяют, отменяют или ограничивают его видимую свободу.