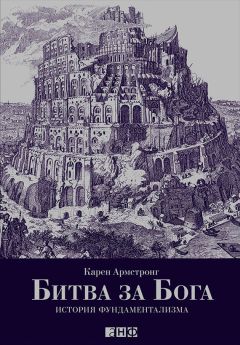Карен Армстронг - История Бога. Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе
На Западе Бог всегда был связан с борьбой, и кончина Его тоже сопровождалась муками, безысходностью и смятением. В «In Memoriam», великой викторианской поэме о сомнениях, Альфред Теннисон в ужасе отшатывается от картины бесцельной, равнодушной природы с багровыми от крови клыками и когтями. Опубликованные в 1850 году, за девять лет до дарвиновского «Происхождения видов», стихи Теннисона показывают, что поэт уже тогда чувствовал, как его вера крошится:
Ребенок рыдает во мраке ночи,
Тоскует, рыдая, о свете дня,
Не вымолвит слова — только рыдает.[21]
В стихотворении «Dover Beach» Мэтью Арнольд[22] оплакивал неуклонное обмеление океана веры, после чего людям останется лишь скитаться по темнеющим равнинам. Неверие и растерянность перекинулись и в православный мир, но приняли там несколько иную форму: в отличие от утонченных сомнений Запада, православные мыслители доходили до радикального отрицания высшего смысла. Федор Достоевский написал роман «Братья Карамазовы» (1880 г.), где по-своему провозгласил смерть Бога. Царившие в его собственной душе раздоры между верой и разумными суждениями писатель высказал еще в марте 1854 года в письме к другу:
Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных.[23]
Столь же неоднозначным стал и роман Достоевского. Иван Федорович, которого остальные персонажи называют атеистом (именно в его уста вложена знаменитая ныне максима: «Если Бога нет, то все позволено»), недвусмысленно заявляет, что верует. Позднее, однако, Иван Федорович не приемлет Бога, ибо Он не позволяет объяснить высший смысл трагичности бытия. Ивана тревожит не теория эволюции, а житейская история человеческих страданий, ведь смерть одного-единственного ребенка — уже слишком высокая плата за благочестивую убежденность в том, что в конце концов все устроится. Дальше мы увидим, что к такому же выводу пришли в ту эпоху и евреи. Но в «Братьях Карамазовых» есть и другой персонаж — Алеша, который признается, что в Бога не верит. Признание это вырывается у него будто нечаянно, само собой выплескивается из неких неведомых уголков подсознания. Двусмысленность и смутное ощущение заброшенности станут впоследствии неизбывной чертой литературы XX века с ее главными символами — бесплодными землями и одиноким человеком, ожидающим Годо, который не придет никогда.
Подобными недомоганиями и дурными предчувствиями терзался в ту пору и мусульманский мир, хотя причины их были совершенно иные. К концу XIX века европейская «цивилизаторская миссия» была уже в полном разгаре. В 1830 году Франция колонизировала Алжир, а в 1839 году Британия захватила Аден. Позднее независимость потеряли Тунис (1881 г.), Египет (1882 г.), Судан (1898 г.), Ливия и Марокко (1912 г.). В 1920 году Британия и Франция поделили между собой весь Ближний Восток, раздробленный теперь протекторатами и мандатами. Колониальная кампания, по существу, стала лишь официальным оформлением дотоле незримой экспансии Запада, поскольку европейцы еще в XIX веке добились культурного и экономического господства над Востоком, внушив ему идеал модернизации. Технократическая Европа набрала безудержную силу и овладела всем миром. В Турции и на Ближнем Востоке были учреждены торговые посты и консульства, которые подорвали традиционную для этих регионов систему хозяйствования задолго до того, как Запад захватил тут политическую власть. Это была принципиально новая колонизация. Когда Моголы захватили Индию, местное население вобрало в свою культуру немало мусульманского, но со временем опять вернулось к исконной культуре. Новые колониальные порядки преображали жизнь покоренных народов раз и навсегда: зависимость от Запада закладывалась в само государственное устройство.
Колонии просто не могли догнать Европу. Прежним институтам захваченных стран были нанесены смертельные раны. Исламское общество само раскололось на «европеизированных» и «всех остальных». Кое-кто из мусульман смирился с размытым определением «восточные народы», которым европейцы бездумно смешали в одну кучу арабов, индийцев и китайцев. На мусульман, верных традициям, некоторые их соотечественники глядели свысока. Иранский правитель Наср-эд-диншах (1848–1896 гг.) не раз повторял, что презирает своих подданных. Прежде живая, самобытная и целостная цивилизация постепенно превращалась в объединение зависимых государств, представлявших собой скверные подражания образцам из чуждого мира. Сущностью модернизации в Европе и Соединенных Штатах были постоянные новшества, а такому процессу подражать просто нельзя. Нынешние антропологи, изучающие современные страны и города арабского мира, считают, что архитектурный план того же центра Каира отражает скорее чужое доминирование, чем прогресс.[24]
С другой стороны, теперь и сами европейцы начали верить, что их культура не только господствует в настоящем, но и всегда была во главе мирового прогресса. Такая самоуверенность опиралась порой на вопиющее незнание истории. Индийцев, египтян или сирийцев следовало обратить на правильный путь Запада — ради их же блага. Эти колониальные настроения наглядно отразились в сочинениях Эвелина Баринга, лорда Кромера, генерального консула в Египте с 1883 по 1907 гг.:
Сэр Альфред Лайелл сказал мне однажды: «Восточному мышлению ненавистна точность. Об этом должен помнить каждый англо-индиец». Неточность, легко вырождающаяся в лживость, — это действительно главная черта восточного мышления.
Европеец рассуждает строго, его суждения о фактах недвусмысленны. Это прирожденный логик, даже если он не изучал формальную логику. Европеец по самой природе своей склонен сомневаться и, прежде чем принять истинность любого высказывания, всегда требует доказательств. Мышление же людей Востока напоминает скорее его живописные улочки, где не найти никаких следов порядка. Восточные рассуждения в высшей степени неряшливы. И хотя древние арабы достигли определенных успехов в науке диалектики, их потомки на удивление обделены логичностью ума. Подчас они не в силах построить самые очевидные умозаключения исходя из любых простейших данных, признаваемых достоверными.[25]
Одной из «помех», которые следовало преодолеть, стал ислам. Негативный образ пророка Мухаммада и его веры сложился в христианском мире еще во времена крестовых походов и сохранялся в Европе наряду с давним антисемитизмом. В колониальную эпоху ислам считали на Западе религией фаталистической, которая неизменно противится любым нововведениям. Тот же лорд Кромер, например, резко осуждал усилия египетского реформатора Мухаммеда Абдо и твердил, что ислам просто не в состоянии преобразиться.
У мусульман тогда не было ни времени, ни сил развивать свои представления о Боге традиционным путем. Вся их энергия уходила на попытки сравняться с Западом. Кое-кто видел искомый ответ в мирском обществе по западному образцу, однако то, что шло на пользу Европе, в исламском мире выглядело чужеродным и непонятным, ибо пришло извне, а не развивалось естественным образом на основе местных традиций. На Западе символом отчуждения стал «Бог», а в мусульманском мире — колониальный процесс.
Отсеченные от корней родной культуры люди лишились ориентиров и растерялись. Некоторые мусульманские реформаторы стремились ускорить прогресс, навязывая исламу второстепенную роль. Результаты, однако, оказались совсем не теми, на какие они рассчитывали. В новом государстве Турция, возникшем после крушения Оттоманской империи в 1917 году, президентом стал Мустафа Кемаль (1881–1938 гг.), более известный как Кемаль Ататюрк. Он попробовал перекроить страну на европейский лад: отделил ислам от государства и сделал веру делом исключительно личным. Власти закрыли медресе, отменили обучение улемов за счет государства и распустили суфийские братства, которые ушли затем в подполье. Символом этой политики секуляризации стал запрет на ношение фесок — слишком очевидных знаков вероисповедания. Не менее мощным психологическим воздействием была и попытка облачить народ в европейские костюмы: выражение «сменить феску на шляпу» употреблялось в значении «стать настоящим европейцем». Реза-хан, шах Ирана с 1925 по 1941 гг., восхищался Ататюрком и попробовал провести ту же политику: отменил паранджу, обязал мулл бриться и носить кепи вместо тюрбана, запретил традиционные праздники в память шиитского имама и мученика Хусайна.
Фрейд в свое время мудро заметил, что насильственное подавление религии не приносит ничего, кроме разрухи. Как и половое влечение, вера относится к той категории человеческих потребностей, которые пронизывают все сферы жизни. Результаты притеснения веры столь же взрывоопасны и пагубны, как и жесткое сдерживание сексуальности. В Иране традиционно считалось, что муллы противостоят шаху от имени народа. Порой муллы действительно добивались поразительных успехов: например, в 1872 году, когда шах предоставил британцам монополию на производство, ввоз и продажу табака и тем самым обрек иранские мануфактуры на разорение, муллы издали фетву (постановление), запрещавшую иранцам курить. В конце концов шаху пришлось отменить концессию. Противовесом деспотическому и драконовскому режиму Тегерана стал святой город Ком. Подавление религии нередко порождает фундаментализм — точно так же как неадекватная форма теизма способна привести к полному отрицанию Бога. Закрытие медресе в Турции привело, разумеется, к снижению авторитета улемов. Самые образованные, трезвомыслящие и достойные доверия сословия пришли в упадок, и единственными формами религии остались причудливые разновидности подпольного суфизма.