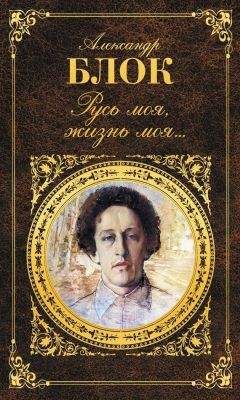Мария Бекетова - Александр Блок и его мать
Дождь идет. Извощик пьяный
Спит, на козлах прикорнув,-
Жак, денщик отменно рьяный,
Прокричал, рукой махнув:
"Эй, извощик!"…
и т. д.
Есть записи юмористических стихотворений, появившихся потом в "Вестнике". Привожу одно из них:
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
О, радость! Не миф ты.
И грезы встают:
По улицам "Свифты"
Повсюду снуют.
Восторгом объятый,
И бравый на вид,
Спортсмен бородатый
Ногами стучит.
И носится дико
Он в полную рысь.
Прохожий, сверни-ка!
Не то – берегись…
Сменилась забота
На счастья часы,
Лишь воют с чего-то
Столичные псы.
Кудрявый Сатирик.
Все эти записи относятся к весне и лету 1894 года (13 1/2 л.). Саша был тогда в большой дружбе с вышеупомянутой тетей Липой, девушкой лет 30, очень моложавой на вид. Знакомство это началось гораздо раньше, еще при няне Соне. Тетя Липа была городская учительница и жила далеко не роскошно, но отличалась бесконечно легким и веселым характером. У нее была юмористическая жилка, которая проявлялась на каждом шагу. Рассказывала ли она что-нибудь или делала какое-нибудь замечание, – все выходило у нее как-то комично, не только по смыслу, но и по тону и мимике. Детей она смешила неудержимо, и это выходило у нее невольно, само собой. Саша очень ценил ее общество. Бывало, сидим мы вместе за чаем в Гренадерских казармах {В доме матери Саши.}; тетя Липа усядется рядом с Сашей и под шумок говорит ему что-то смешное, а он то и дело обращается к матери и сообщает: "Мама, а мама, а что тетя Липа говорит…". Та даже удивится иногда: "Да что же я такого сказала?" А Саша-то веселится. Вообще в ней было что-то праздничное и вместе уютное. Она была близка у нас в доме и одно время часто гостила в Шахматове. Об ней мне придется говорить и в дальнейшем, а пока я буду продолжать свой рассказ.
Записи книжки 1894 года отражают все Сашины интересы того времени. В ней есть подробное описание одного дня (25 мая), который он провел особенно весело. Утром Саша успешно выдержал последний экзамен (латинский) и перешел в V класс, весь остальной день он провел с двоюродными братьями Феролем и Андрюшей, а вечером с ними же был в Зоологическом саду. И звери, и представление на открытой сцене, и другие подробности записаны с величайшей точностью, но без всякой литературной окраски, так сказать, фотографически. Интересно отметить, что среди отрывков дневника, правил французской грамматики, латинских и греческих фраз и пр. вдруг попадаются слова итальянской песенки: "Vieni, la barca e pronta!" {"Приходи, лодка готова!" (ит.).} и два цыганских романса: "Ночи безумные" и "Я вновь пред тобою". Не помню, в чьем исполнении он все это слышал, но вкус к такого рода пению, очевидно, рано у него проявился.
ГЛАВА III Конец отрочества и ранняя юность
В зиму, предшествовавшую лету 1894 года, на котором я так долго останавливалась, Саша в первый раз видел игру драматических артистов. Увлечение сценой пошло очень быстро. В течение зимы он видел еще несколько пьес, а летом 1895 г. устроен был в Шахматове первый спектакль с постановкой "Спора греческих философов об изящном" (Козьма Прутков). Лет около 15, в пору первых романтических грез, обнаружилось у Саши пристрастие к Шекспиру, тогда началось чтение монологов из "Гамлета" и "Отелло".
Весной 1897 года наступил важный момент в Сашиной жизни: поездка в Наугейм, встреча с К. М. С. {Смотри мою биографию, стр. 48.} и первое увлечение. Саша сопровождал больную мать и меня в Наугейм только для удовольствия. Ему было тогда 16 1/2 лет. Дорогой он очень интересовался поездами и видами из окна. Наугейм ему чрезвычайно понравился, он пришел в веселое настроение и потешал нас своими словечками и шаловливыми выходками. Помню один из первых вечеров, когда мы сидели на террасе какого-то большого отеля. Мэтр д'отель торжественно разрезал и подал нам очень старую и жесткую курицу. Когда мы начали ее есть, Саша сказал: "Das ist die alteste Petuchens Gemahlin", {"Это старшая супруга петуха" (нем.).} а потом значительным тоном добавил: "Nicht alles was altes ist gut". {"Не все, что старо, то хорошо" (нем.)}
Сашины выдумки и дурачества сильно скрашивали нашу довольно-таки скучную курортную жизнь. В Наугейме было много людей с больными ногами и неправильной походкой. Идя втроем на ванны или на музыку, мы часто встречали одного и того же видного господина с больной ногой. Пропустив его вперед и идя непосредственно вслед за ним, Саша в точности перенимал всю его повадку: несколько сгорбленную спину, манеру класть руку за спину и походку с откидыванием правой ноги. Это было так смешно, что мы с сестрой помирали со смеху. Но вся эта безмятежность исчезла с тех пор, как явилась "она". Тут начались капризы, мрачность, словом, все атрибуты влюбленности, тем более, что Сашина мать была еще слишком молода и неопытна, чтобы отнестись к его роману с мудрым спокойствием, и ее тревога действовала на Сашу. Капризы и мрачность его проявлялись, конечно, по-детски. Помню, как он пришел с вокзала, проводив свою красавицу. В руках у него была роза, подаренная на прощанье. Он с расстроенным и даже несколько театральным видом упал в кресло, загрустил и закрыл глаза рукой. Мы с матерью бросились его развлекать и довольно скоро достигли цели. В Россию мы возвратились превесело, не подозревая о той беде, которая стряслась в наше отсутствие, так как дедушкину болезнь от нас скрыли. В Шахматове ждала нас печальная картина: вместо веселого, бодрого дедушки, неутомимо сопровождавшего внуков во всех их походах, мы увидали беспомощного и жалкого старика в больничной обстановке. Самое трудное время уже миновало. Когда мы приехали, дедушка чувствовал себя несколько лучше, и уход за ним был налажен. Болезнь деда не нарушала однако жизни внуков. Они по-прежнему веселились, и никто их не останавливал. Просили только не шуметь, если дедушка спал по соседству. Он, разумеется, рано ложился спать, вечерний чай происходил уже без него. Помню один вечер, когда пили чай за запертой дверью через комнату от его спальни. На мальчиков нашел особенно шаловливый стих именно потому, что нужно было соблюдать тишину. Беззвучно хохоча, они проделывали тысячу глупостей вроде обливания друг друга из лейки, стаскивания сапога под столом и т. д. По временам кто-нибудь из них выскакивал в окно и потом лез обратно. Словом, шалостям не было конца. И все эти ребячества уживались у Саши с романтическим настроением и переживаниями первой любви. Вскоре после нашего возвращения из Наугейма сестра Соф. Андр. уехала вместе с сыновьями за границу. Мы остались одни. После отъезда братьев Саша впал в романтическое настроение. Он зачитывался "Ромео и Джульеттой" и стал изучать монологи Ромео. Особенно часто декламировал он монолог последнего акта в склепе: "О, недра смерти…" Желание играть охватило его с необычайной силой. Ему было решительно все равно, перед кем декламировать, лишь бы было хоть подобие публики. Сохранилась следующая широковещательная афиша, написанная Сашиной рукой в конце лета:
"СЕГОДНЯ 8 АВГУСТА 1897 ГОДА
АРТИСТОМ ЧАСТНОГО ШАХМАТОВСКОГО ТЕАТРА БУДЕТ
ПРОИЗНЕСЕН МОНОЛОГ
РОМЕО НАД МОГИЛОЙ ДЖУЛЬЕТТЫ.
(НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЕ).
Сцена изображает часть кладбища в парке, предназначенного для семейства Капулетти. Гробов не видно, и они предполагаются со стеклянными крышками, кроме гроба Джульетты, который открыт. На заднем плане ограда кладбища. Сумерки".
В то время дедушку возили в кресле, он едва лепетал и совершенно впал в детство, но, обожая Сашу, интересовался всем, что его касалось. Поэтому он присутствовал при чтении монолога вместе со своим служителем. Больной дедушка со слугой, Сашина мать и я – вот и все зрители. Монолог читался в саду, без костюма, никакой декорации не было. Зрители разместились в аллее. Саша встал на бугор над впадиной луга и, приняв отчаянную позу, выразительно и красиво прочел монолог. Много раз говорил он его потом уже без всякой афиши.
Приехав в Петербург в августе, Саша написал матери, остававшейся еще некоторое время в Шахматове, обстоятельное письмо с описанием своих гимназических занятий. Письмо от 20 августа 1897 года. Саше было около 17 лет. Начинается с описания неинтересных домашних дел и подробного описания уроков в гимназии. Потом идет более интересная часть:
"…Сегодня на французском языке кричали: Vive la France! Vive Felix Faure! {Да здравствует Франция! Да здравствует Феликс Фор! [11] (фр.)} Француз был доволен и благодарил. Он знает, где Наугейм, чего я не ожидал от него; он дурак вообще. На гимнастике нам сказали, что мы основа гимназии, на что мы отвечали мяуканьем (по обыкновению!). Космографии учитель новый, зовут его "Сиамец", говорят, он свинья… это покажет будущее!… Грек и латинист по-прежнему благоволят ко мне. Кучеров притащил из Финляндии огромный финский нож и подарил его мне. Галкину он подарил такой же. Он очень удобен для роли Ромео (т. е. не Галкин, а нож). Мы было сидели в старом классе, но нас переводят в помещение восьмого. Там мы в своей компании, а именно: направо Кучеров, затем по сторонам Галкин, Лейкин, Фосс, Гун и др. Класс огромный (для восьмого) – 34 человека! Выпуск будет особенно большой… Сегодня я ехал в конке и видел артиста и артистку. Они ехали на Финляндский вокзал и рассуждали о том, как трудна такая-то партия, и о других интересных вещах… Гимназия надоела страшно, особенно с тех пор, как я начал понимать, что она ни к чему не ведет… Ты просила меня писать про настроение: оно было все время хорошее, но теперь скверное, отчасти от погоды, а также от других причин. Гимназия совсем не вяжется с моими мыслями, манерами и чувствами. Впрочем, что ж? Я наблюдаю там типы купцов, хлыщей, забулдыг и пр. А таких типов много, я думаю, больше и разнообразнее, чем в каком-нибудь другом месте (в другой гимназии)…"