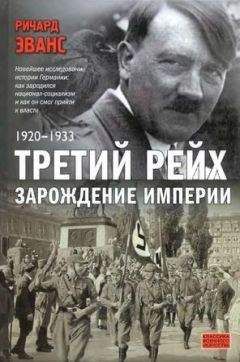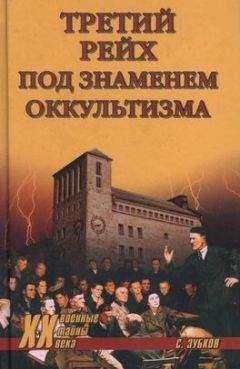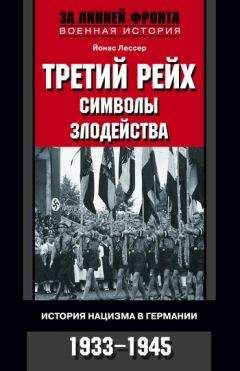Андрей Васильченко - Миф о вечной империи и Третий рейх
Пролетариат сможет занять свое место в обществе только тогда, он не будет воспринимать себя как класс, а как часть народа, когда он больше не будет пролетарским классом, а рабочим сословием. Это различие между пролетариями и рабочими гораздо больше, чем просто разница в понятиях. Оно кроется в политическом сознании. В пролетарском сознании, которое нанесло ущерб рабочему сословию, его разделили с единственным сообществом, которому оно еще могло принадлежать — с собственным народом. Если изменилось политическое сознание, то затем меняется место рабочих в недрах нации, но перед этим изменилось их отношение к самой нации. Только пролетариат, который осознает себя рабочим сословием определенной страны, может вновь быть причастным к общественной жизни своего народа. Участие в жизни нации, к которой принадлежат рабочие, поможет отринуть само понятие пролетариат. Это очень хорошо поняли пролетарии западных держав, обладающие политическим чутьем. В то же время русский пролетариат должен был в этом убедиться только тогда, когда западные державы напали на Советскую Россию. Немецкий пролетариат лишь после борьбы в Руре начинает находить и осознавать национальные, экономические и политические взаимосвязи, имеющиеся в истории.
Немецкий коммунизм хотел понять эти взаимосвязи только с марксистской позиции. Но он уже стал использовать в своих целях не только рабочих. Он уже начинает приглядываться к крестьянам, сельскохозяйственным рабочим и солдатам. Он уже говорит о правительстве рабочих и служащих. Немецкий коммунизм уже начинает считаться с непролетарскими элементами. Это нововведение в истории марксизма. Это выходит за пределы речей о работниках физического и умственного труда, до которых снизошел даже социализм. В то время как коммунизм приобщает непролетарские слои, социализм обходит их стороной, выходя прямиком на нацию, тем самым желая обеспечить политическое положение немецкому пролетариату. Однако его политика все равно остается интернациональной. Он скорее обходит стороной непролетарские слои, в то время как его позиции сосредоточились на экономических и общественных преобразованиях, от которых марксизм ожидал освобождения конкретного пролетария, а затем и всего человеческого рода. Но она начинает действовать как национальная политика. Это связано с направлением, когда устанавливается связь между личным закабалением, которое рабочий рассматривает как цепи, коими он потрясает как класс, и огромным порабощением, которое мы разгадали как народ. Возникает только один вопрос. Найдут ли в себе силы национальные элементы из рабочего движения изменить боевые диспозиции пролетариата и повлиять на него в «национал-социалистическом» духе? Изменить фронт борьбы, который до сего момента был ориентирован на классовую борьбу, а потому наполовину выступал против собственного народа? Направить его против врагов нашей страны? Наша духовная судьба однозначно не зависит от этого. Но совершенно точно, что от этого зависит наша политическая участь.
Внешняя политика является тем самым моментом, по которому позиции пролетарских и национальных элементов совпадают. Она становится все более и более ощутимой во всех движениях революционных рабочих. Народ не хотел изо дня в день не покладая рук горбатиться на другие народы. А еще имелось ощущение обмана, который был совершен в Версале от имени демократических идеалов. В конце концов народ понял, что к этому обману его подбили уговоры собственных вождей. Народ хотел положить конец. Но конец не республике, а слабому государству, которое рассчитывало на успех благодаря своей уступчивости, которое видело спасение в работоспособности народа, которое ожидало от него добродушия и долготерпения, а вместо политики нарушало права, вновь и вновь причиняя этому народу несправедливости. Из социалистических партий только коммунизм обладал мужеством, дерзостью и присущей всем революционным партиям резкостью, чтобы сказать народу правду. Прочие партии, участвовавшие в революции, социалистическая и либерально-демократическая, увильнули от этой правды. Они боялись признаться, так как опасались, что от них потребуют отчета. Даже теперь все еще остались социалисты, которые живут в мире самообмана и лозунгов, которые апеллируют к разуму, к мировому благоразумию, к силе обстоятельств, которые позволят пересмотреть Версальский мир или хотя бы добиться некоторых уступок. Они ведут за собой бедных людей и оголтелых франкофилов. Они снова и снова заявляют, что хотят мира — мира, который был сокрушительным для этого времени. Они проявляют мягкую, трусливую и честолюбивую готовность вести переговоры с врагом, который вновь появился, но отнюдь не с этого дня, с момента оккупации Рура. Коммунизм высказался по этому поводу, что весь этот пацифистский космос является огромнейшим обманом. Но коммунизм продолжает все так же верить в Интернационал. Он все еще надеется объединить всех пролетариев мира. Он даже рассчитывает на французский коммунизм. Он скрывает от немецких рабочих, что французский пролетариат в аграрной стране является политически беспомощным. Скорее всего, он тешит себя фантазией о французском военном восстании, которое все-таки возможно и которое должно быть направлено по пути классовой борьбы. По-иному немецкий коммунизм полагается на Россию, на Советское государство, которое он обожает как единственное пролетарское правительство, которое смогло продержаться в капиталистическом окружении. Немецкий коммунизм превозносит рабочим Советскую Россию, которая занимает одну шестую часть суши. Немецкий коммунизм, правда, очутился в неловком положении, когда был вынужден смириться с тем, что Москва отступила от большевистской модели и сделала капиталистические уступки Антанте. Он стремился скрасить этот факт. Он пытался приуменьшить значение этого события. Он даже, пожалуй, предпринял попытку оправдать Россию. Он говорил, что Россия должна жить именно так. Но разве не так должна жить Германия?
К ценностям, которые немецкий пролетарий до сих пор не разделяет, принадлежит осознание нации, коей он принадлежит. Он верит, а может быть, и нет, но до вчерашнего дня верил в солидарность трудящихся всех стран. История для него началась в тот день, когда он услышал это послание. И отныне он поставил себя на службу интернациональной идее. Он делал это беззаветно и жертвенно. И это было весьма по-немецки. Но самым немецким в нем было то, что он не думал о собственном народе. Немецкий социализм никогда не приходил к мысли, что немецкий народ оказался обманутым другими народами. Он никогда не говорил себе, даже перед войной, что «двадцать миллионов людей являются лишними». Он не видел проблему перенаселенности и недостатка территории. Однако щедрая немецкая социал-демократия весьма охотно поддерживала классовую борьбу в других странах. А французский пролетариат с великой радостью принимал средства, которые жертвовались ему из Германии. Немецкий пролетарий мог уверенно говорить, что он являлся социалистом. Война была неизбежна. Исход войны, Версальской мирный договор, ультиматум Лондона и политика Пуанкаре были необходимы, дабы показать немецким социалистам, что в этом мире один народ является естественным врагом другого народа, что каждый народ думает только о себе, что сегодня немецкий народ является одиноким, покинутым и преданным. Немецкий пролетариат столкнулся лицом к лицу с этим фактом во время оккупации Рура. Но только человек, который не хочет быть пролетарием, в состоянии постигнуть основы, глубокие отношения, таинственную и все же очевидную связь с историей европейских народов, которая не позволит насмехаться над ним. Если пролетариат хочет сохраниться в этой истории, то он должен быть причастен ей. Он должен воспринять осознание нации, к которой он принадлежит. Возможно, будущее покажет, что смысл революции заключался в том, чтобы немецкий пролетариат вернулся в лоно немецкой нации.
В рейхстаге три социалистические партии при случае поднимали возмущенный шум по поводу реплики, ставшей упреком, что «коммунисты не могут быть немцами». Среди тех, кто от негодования сжимал кулаки, были и независимые социал-демократы. Однако разве они не позаимствовали дух наших врагов? Разве они не согласились с пунктом Версальского договора о нашей виновности? Разве они нам постоянно не вредили, соглашаясь с нашими противниками? Разве не они дали возможность Антанте ссылаться на свидетельства немцев, которые оборачивались против Германии? Руководители этой партии дружили с французами по родству души. Они призывали страну к большой революции хотя бы потому, что они наделись стать авторами маленькой революции, совершенной по французским парламентским образцам.
Впрочем, они все равно оставались интернационалистами. Один из них, с надменным и мессианским выражением школьного учителя, уверял, что «Отечество — это весь мир». Затем в этом возмущенном обсуждении приняли участие социалисты большинства. Среди их избирателей было достаточное количество усердных немцев, которые считали войну своим догом, а потому верили, что обладали правом на мир. Демократическая партия не предалась обману об этом мире, она скорее была уверена, что демократы Запада обманули нас. Это была та самая партия, которая не пошевелила и пальцем, когда левая рука подписывала то, что отказывалась подписать правая. И, наконец, это возмутило парламентских коммунистов, представителей группы, которые понимали коммунизм как солидарность. Все они, как оказалось, соглашались с правом коммунистов быть немцами.