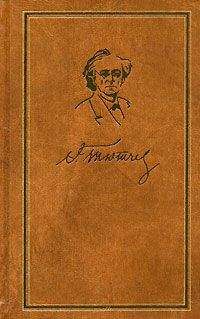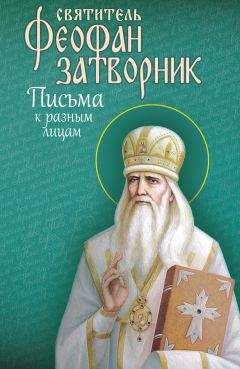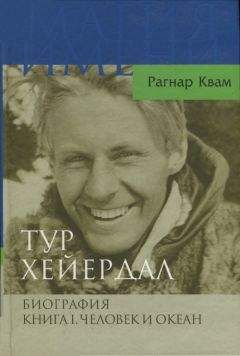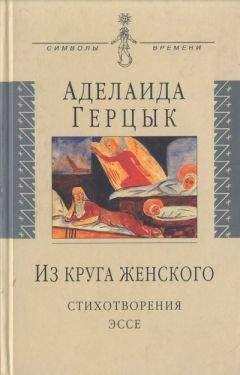Наталия Ковалева - Письма Махатм
[Неадекватное восприятие Хьюмом писем Махатм; его несправедливая критика в их адрес]
Вы не думаете, что если бы выражение «начав ненавидеть» было заменено на «опять начав испытывать вспышки неприязни или временного раздражения», то одно только это предложение чудесно изменило бы результаты? Если бы была применена такая фразеология, мистер Хьюм вряд ли нашел бы возможным отрицать факт так энергично, как он это делает. Это совершенно правильное заявление, когда он говорит, что такого чувства, как ненависть, он никогда не имел. Будет ли он настолько же способен протестовать против всего сказанного в общем, это мы увидим. Он признался в том факте, что он был «раздражен» и испытывал «недоверие», вызванное Е.П.Б. Это раздражение, он не будет более отрицать, длилось несколько дней! Где же он находит тогда неправильное изложение? Давайте еще раз признаем, что было употреблено неправильное слово. Раз он так требователен в отношении слов, так полон желания, чтобы они всегда передавали правильно мысль, почему он не применяет того же правила к себе? Что простительно азиату, несведущему в английском языке, тем более такому, у которого нет привычки выбирать выражения по вышеупомянутым причинам, а также потому, что среди своих соотечественников он не может быть неправильно понят, то должно быть непростительным высокообразованному, сведущему в литературе англичанину. В своем письме Олькотту он пишет: «Он (то есть я), или она (Е.П.Б.), или оба они между собою так перепутали и неправильно поняли письмо, написанное Синнеттом и мною, что это привело нас к получению послания, совершенно неприменимого к обстоятельствам, что и создает недоверие». Смиренно прошу разрешения задать вопрос, когда же я, или она, или мы оба видели, читали и, следовательно, «перепутали и неправильно поняли» письмо, о котором идет речь? Как могла она перепутать то, чего она никогда не видела? И как мог сделать то же самое я, не имеющий ни склонности, ни права заглядывать и вмешиваться в это дело, касающееся только Чохана и К.Х., если я не обращал на это дело ни малейшего внимания? Разве Е.П.Б. сказала вам в тот день, о котором идет речь, что я направил ее в комнату к мистеру Синнетту с сообщением по поводу письма? Я был там, уважаемые сахибы, и могу повторить каждое слово из того, что она сказала. «Что это такое?.. Что вы сделали или сказали К.Х., – кричала она с ее обычной нервозной возбужденностью мистеру Синнетту, который был один в комнате, – что М. (назвала меня) мог так рассердиться, что велел мне приготовиться перенести нашу штаб-квартиру на Цейлон?» Это были ее первые слова, которые показывают, что она ничего определенного не знала, ей было сказано еще менее того, но она просто кое-что предполагала благодаря тому, что я ей сказал. А я ей сказал просто, что лучше ей приготовиться к худшему, уехать и поселиться на Цейлоне, чем делать из себя посмешище и дрожать над каждым письмом, передаваемым ей для препровождения К.Х.; и что если она не научится лучше владеть собою, то я прекращу все это дело. Эти слова были сказаны ей не потому, что я имел какое-либо отношение к вашему или к какому-нибудь другому письму или вследствие какого-либо посланного письма, а потому, что мне случилось увидеть ауру, окружающую новое Эклектическое общество и ее саму – черную, напитанную будущими интригами, – и я послал ее рассказать об этом мистеру Синнетту, но не мистеру Хьюму.
Мое замечание и сообщение (благодаря ее скверному настроению и расшатанным нервам) расстроили ее до смешного, и последовала хорошо известная сцена. Не вследствие ли призрака крушения теософии, вызванного ее неуравновешенным мозгом, теперь ее обвиняют, вместе со мною, что она перепутала и неправильно поняла письмо, которого никогда не видела? Есть ли в заявлении мистера Хьюма хоть одно-единственное слово, которое можно назвать правильным, причем термин «правильный» применен мною в его действительном значении по отношению к целому предложению, не только к отдельным словам, – пусть об этом судят более высокие умы, чем у азиатов. И если мне разрешается подвергнуть сомнению правильность мнения человека, столь «значительно выше меня стоящего» по образованию, уму и остроте восприятия неизменной адекватности всего, то почему меня считают «абсолютно неправым» за следующие слова: «Я также вижу внезапно растущую неприязнь (или – раздражение), вытекающую из недоверия» (мистер Хьюм признался в этом, причем употребил тождественное выражение в своем ответе Олькотту; пожалуйста, сравните цитаты из его письма, приведенные выше). Разве я не прав? И, кроме того, Хьюм знает, как она вспыльчива и неуравновешенна, и эти враждебные чувства по отношению к ней с его стороны являлись почти жестокостью. Целыми днями он почти не смотрел на нее, не говоря уже о том, чтобы разговаривать с нею, и причинял ее сверхчувствительной натуре сильную и ненужную боль! А когда мистер Синнетт ему об этом сказал, он стал отрицать этот факт. Это последнее предложение, после которого на стр. 7 идут «многие другие подобные истины», я вырвал вместе с остальными (как вы можете убедиться, спросив о том Олькотта, который расскажет, что изначально письмо состояло из 12, а не 10 страниц и что он послал письмо с гораздо большим количеством подробностей, чем сейчас в нем находится, ибо не знал, что я сделал и почему это было сделано. Не желая напоминать мистеру Хьюму о подробностях, давно забытых им и не относящихся к делу, я вырвал эту страницу и зачеркнул многое из оставшегося. Его чувства уже изменились, и я был удовлетворен).
[О Хьюме]
Сейчас вопрос заключается не в том, есть ли мистеру Хьюму вообще дело до того, приятны мне его чувства или нет, а скорее в том, оправдано ли фактами то, что он писал Олькотту, то есть что я совершенно неправильно понялего действительные чувства. Я говорю: факты не оправдали его. Как он не может помешать мне быть «недовольным», так и я не могу беспокоиться о том, чтобы он испытывал другие чувства вместо тех, которые он теперь испытывает, а именно, что ему «вообще нет дела до того, приятны мне его чувства или нет». Все это ребячество. Тот, кто желает приносить пользу человечеству и считает себя способным распознавать характеры других людей, должен, прежде всего, научиться познавать самого себя, оценивать собственный характер по достоинству. А этому, осмелюсь сказать, мистер Хьюм никогда еще не учился. И ему также следует учиться распознавать, в каких особенных случаях результаты могут, в свою очередь, стать важными первичными причинами. Если бы он ненавидел ее[135] самой лютой ненавистью, он не мог бы причинить ее нелепо чувствительным нервам более мук, чем он причинил ей, пока «все еще любил эту старую милую женщину». Он так поступал с теми, кого более всех любил, и бессознательно для самого себя будет так же поступать не раз впоследствии. И все же его первым импульсом всегда будет отрицать это, ибо он совсем не отдает себе отчета в том, что чрезвычайная доброта его сердца в таких случаях ослепляется и парализуется другим чувством, которое, если ему на это указать, он также будет отрицать.
Не смущаясь его эпитетами «гусь» и «Дон Кихот», я, верный своему обещанию, данному моему благословенному Брату, скажу ему об этом, нравится ему это или нет, ибо теперь, когда он открыто высказал свои чувства, мы должны или понять друг друга, или порвать наши отношения. Это не «полузавуалированная угроза», как он выражается, ибо – «что лай собаки, то угроза человека» – она ничего не значит. Я говорю, что если он не понимает, до чего неприменимы к нам стандарты, по которым он привык судить обитателей Запада, его собственного общества, то было бы просто потерей времени для меня и К.Х. учить его, а для него – учиться. Мы никогда не рассматриваем дружеское предупреждение как «угрозу» и не испытываем раздражения, когда нам его высказывают. Он говорит, что лично ему совершенно безразлично, «порвут ли с ним Братья завтра или нет»; тогда тем больше причин, чтобы мы пришли к пониманию.
[Гордыня Хьюма как его главный моральный недостаток]
Мистер Хьюм гордится мыслью, что у него никогда не было «духа благоговения» перед чем-либо, кроме его собственных абстрактных идеалов. Мы об этом прекрасно осведомлены. Ему невозможно иметь благоговение перед кем-либо или чем-либо, потому что все благоговение, на которое он способен, сосредоточено на нем самом. Это является фактом и причиной всех неприятностей в его жизни. Если его многочисленные официальные «друзья» и его собственная семья считают всему виной его тщеславие, – они все ошибаются и говорят глупости. Он слишком интеллектуален, чтобы быть тщеславным, он просто и бессознательно для самого себя является воплощением гордыни. Он даже не благоговел бы перед своим Богом, если бы этот Бог не был его собственным созданием, его собственного производства. Вот почему он не может ни примириться с какой-либо из уже установленных доктрин, ни подчиниться когда-либо философии, которая не придет во всеоружии, подобно греческой Минерве, или Сарасвати•, из его собственного мозга. Это может пролить свет на тот факт, почему я отказывался в течение короткого периода моего наставничества давать ему что-либо, кроме полупроблем, полунамеков и полузагадок, чтобы он сам их разрешал. Ибо только тогда он поверит чему-либо, когда его собственная незаурядная способность схватывать суть вещей ясно покажет ему, что это должно быть так, раз оно совпадает с тем, что он считает математически правильным.