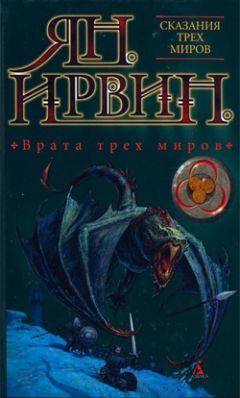В Фёдоров - Воители трех миров
Виднелась там, тая в ярком светлом мареве,
Будто серебряная бляшка
На рогатой старинной шапке.
Взором всевидящим окинул
Все утаенные уголки
Госпожи Матери-Земли,
Глянул оком мудрым
За пределы великих морей,
Внимательным взглядом обвел
Дальние берега
Океанов бездонных...
И увидел,
Дети мои,
Что Одун Хана роковое предначертание
Готово сбыться,
Чынгыс Хана указание
Намерено исполниться,
Бечева оберега шаманского вот-вот оборвется,
Солнце с неба грозит сорваться.
На восьмикрайнюю, о восьми ободах,
Обидами и распрями обуянную,
Цветущую и изобильную Мать-Землю изначальную,
Оказывается, обрушилось
Столько страшных грехов
— Что и коню не вытянуть,
Навалилось столь много
Тяжких преступлений,
Что и быку не вывести...
Скользя взглядом по будущей сытой и самодовольной Европе и обозревая ее страны, шаман-орел вдруг при виде "одной из наций" "прячет в страхе глаза". Почему? Да потому, что ее народ и предводитель...
"На белом свете
Единственный хищник — я", — говоря,
Быком-порозом он ревет.
"В срединном мире только я —
Победитель всех и вся", — кричит,
На дыбы встает.
Во всевышнее небо
Жердиной пихает,
Самой преисподней
Дубиной угрожает,
Еще тридцать лет назад
Настроившись воевать,
С незапамятных времен
Скопил оружие для войны,
Сердце у него ядовитое,
Разум его злобный,
Царство ею — Германия,
А имя ему — немец
И немец тот говорит:
"Если б мне знатных народов
Благословенные царства
Удалось взбаламутить разом,
Как кумыс в бадье,
Единственным всемирным
Был бы я властелином..."
То есть шаман Кулаковского с конкретностью, завидной для Нострадамуса, фактически однозначно предрекает не- мецкий фашизм и его идейного лидера Гитлера. А далее рассказывает, к какой разрушительной войне, к чему он приведет человечество.
Города разорены повсюду,
Губернии испепелены повсеместно.
Людей растерзано видимо-невидимо,
Войск полегло непомерно,
Армии разгромлено неисчислимо.
Лучшие мужчины изрешечены пулями...
Столько ребер расколотых
Сложено как дрова —
В ямы все не зарыть,
Сколько костей раздробленных
Свалено в кучи —
В могилы не вместить
Сколько плоти искореженной
Смешано с песком —
Все земле не предать...
На долгие дни,
На длинные годы
Битва началась страшная...
Не обходят вниманием Кулаковский и его шаман и зреющую на планете революцию. И если в год создания поэмы сам писатель еще мог как-то чувствовать, что:
Малые мира сего
Маются и ярятся в гневе
— Мрачная и непримиримая
Злоба зреет исподволь.
Чернь рабочая,
Расплодившаяся в городах,
Как комариная рать
Кишащая в лесах,
Решается на борьбу
— Хочет переломить судьбу..
Беспощадно драться
Братьев созывает,
то откуда ему становится известно в 1910 году, что почти через десяток лет, в день, когда свобода и закон
Станут за власть сражаться,
Страданья и мука на пару
Сил лишат насовсем.
В день, когда прежний уклад
Перевернется кувырком,
Долгий мучительный глад
Выморочит всех вконец.
В день, когда предков мир
Рухнет, вдребезги упадет,
Гибельная разруха
Навалится и все подомнет...
или
Легионы людей,
В белое облачась,
В бешеной схватке сплелись,
Миллионы людей,
В красное нарядясь,
В кровавой сече полегли...
Кто сегодня был со щитом,
Оказался завтра на щите,
Кто назавтра победил,
Послезавтра был поражен,
Кто нынче власть захватил,
Крах через год потерпел.
Видя, что в конце концов партия большевиков (он ее так и называет прямым текстом) одержат-таки пиррову победу в братоубийственной войне, шаман озвучивает для нее множество "если", при соблюдении которых (и то под вопросом) очень нескоро что-то и получиться у новой власти. Итак, "ежели" она:
Умерит излишнюю ярость,
Утишит чрезмерную гордосгь,
Уравновешенно будет судить,
Учение ущербное отбросит,
Уберет из речи дерзкие слова,
Опомнится, пойдет на попятный,
Уклонятся не станет слишком
Ни влево, ни вправо
, Путь выберет посередине,
Учтет мнение многих,
Узнает, что людей беспокоит,
Только при таком итоге
Сможет иль нет лет через тридцать
Житье стать легче,
Эдак лет через двадцать
Бытье стать лучше,
А может, через полвека
Возникнуть что-то хорошее?..
Прочитав подобные слова, легко понять, почему у коммунистических идеологов были веские основания не любить Кулаковского и изо всех сил выставлять "бредом больного воображения" и это совместное провиденье шамана и поэта, и вещие речи других ойунов, о которых мы вспомним далее. В еще более сложной ситуации, чем Кулаковский, оказался другой известный якутский поэт, ученый и государственный деятель Платон Ойунский, арестованный по сфабрикованному делу и умерший в тюрьме перед судом в конце 30-х годов. Можно только удивляться смелости человека, взявшего и сохранившего до самой смерти подобный псевдоним в годы яростной и слепой борьбы с "опиумом для народа", во времена сталинского террора. Душа Ойунского, как это видится нам сегодня, разрывалась на две части. С одной стороны, "пламенный Платон" в юности горячо принял революцию, стал ее певцом-трибуном и практическим творцом новой жизни и власти, занимая в отдельные годы высшие ее посты, а с другой — пытался как мог сохранять фольклор, традиции и прежнюю историю собственного народа, изо всей силы сталкиваемые с "корабля современности". За подобную защиту "пережитков прошлого" он был не раз жестоко и публично критикован быстро "покрасневшими" коллегами и бывшими друзьями, не говоря уже о "доброжелателях", которые в конце концов и подвели его под репрессию. Но Ойунский все же успел записать и сберечь для будущих поколений цитированное нами олонхо "Нюргун Боотур Стремительный", поставленное ныне в один ряд с самыми великими эпосами мира. Также очень важное и непреходящее место (в отличие от некоторых "большевистских" стихотворных призывов) заняли в его творчестве поэтическая драма "Красный шаман" и повесть-предание "Кудангса Великий", в которой шаманская составляющая играет довольно большую роль. "Праведный" шаман Ойунского, принявший на себя миссию борца за угнетенных и их пророка, надеялся, что его слова и действа станут "добрым набатом", но поскольку в них были изначально заложены неразрешимые противоречия, они привели сначала к гибели воплощенной в девушке-богине вселенской красоты и гармонии, а затем и Красного ойуна. В соответствии с идеологией, главный герой, конечно же, вынужден был перед смертью отречься от самого себя, иначе бы эта драма никогда не увидела подмостков театра. Но финал ее весьма неоднозначен, и еще неизвестно, что победило в итоге По сути, Красный шаман — это и есть в какой-то степени сам Ойунский со всей несовместимой двойственностью его сознания — одновременно мифологического и большевистски-атеистического Недаром при чтении тех или иных его произведений иногда создается впечатление, что они написаны хоть и в едином литературном стиле, но разными авторам.
В этом смысле примечательно, что некоторые "идеологически нежелательные" сочинения Оиунского долгие годы не включались в его издания на родном языке и до сих пор не переведены на русский, хотя книги "классика якутской советской литературы" выходили в Москве и до его репрессии, и после реабилитации К таким произведениям относится повесть "Кэрэкэн", получившая название по имени шамана, от которого, по преданию, Ойунский вел свой род и который дач основания взять урожденному Платону Слепцову его "шаманский" псевдоним.
Легенды утверждают, что именно Кэрэкэн якобы в свое время предсказал приход первых русских казаков на Лену и колонизацию ими Якутии. И он же посоветовал своим родичам откочевать подальше от великой водной дороги, чтобы не попасть под пресс пришельцев Для этого шаман отправил "куда глаза глядят" белого жеребца с девятью отметинами и по его следу через три дня пришел в Таттинский улус, в благодатную местность, видимо, уже позднее получившую название от слова ойун Тогда же, почувствовав близкую смерть, Кэрэкэн обратился к сыновьям и сказал, что назавтра он сам бросится в реку, а когда погибнет, то тело его уплывет в верх по течению на три версты Там и надо будет построить арангас и уложить в него останки По истечению какого-то времени сквозь кости прорастет дерево с большим "шаром" из ветвей, а через несколько поколений под этим деревом потомки должны зачать ребенка, чтобы Кэрэкэн "нашел продолжение на земле" Когда же тот человек доживет до преклонных лет и умрет, а дерево погибнет от старости, — на его месте вырастет точно такое же новое, и все опять повторится.