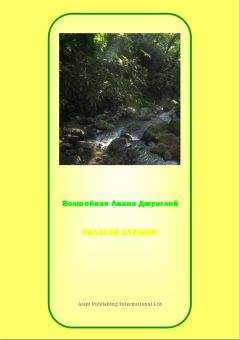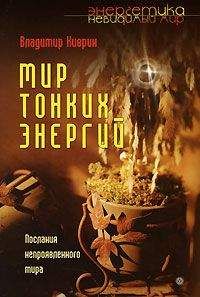Елена Кузнецова - Аяуаска, волшебная Лиана Джунглей: джатака о золотом кувшине в реке
33. Flashback: ЯЛТА
Прошло три дня. Всего три дня. Сегодня вторник, то есть третий день после церемонии — а болезненный аспект перипетий субботней ночи почему-то уже размылся в памяти, каким-то образом полустерся, полузабылся. Вернее, факты как раз были на месте, и никуда они не делись: я обо всем помнила, и еще как хорошо. Так что странная, однако, амнезия наблюдалась. Здесь помню, а здесь… да, тоже помню… хотя знаю, что происходило не так, как помню, а помню совсем не так, как знаю… тут не то что двойной, нет, прямо тройной стандарт налицо.
Думаю, объяснялся он тем, что самым решительным образом изменились эмоциональные составляющие этого фона. Фон был кем-то, не мной! — отредактирован, словно взмахом некоей магической кисти с объективных воспоминаний о достаточно тяжелой переправе смахнули за ненадобностью все перипетии пройденного пути. Тот, кто взмахивал кистью, заодно обернулся и мыслью: путь пройден — и слава богу. В пути всегда есть временные неудобства, а что же Вы хотели? Но то он и путь.
И верно: пришло состояние блаженства и покоя — по свежести и глубине сравнимыми разве что с безмятежностью и беззаботностью утраченного детства. Я очень хорошо помню, как такое же чувство безмысленной эйфории как-то накрыло меня в послеполуденный день счастливых летних каникул на берегу Черного моря.
В этот раз я не прячусь от солнца, как то подобает истинному ялтинскому жителю — а вместо этого лежу прямо под солнцем, в полосатом бело-синем шезлонге. Вокруг пустынно, потому что пляж санаторный, закрытый, а немногие отдыхающие, бывшие там днем, уже отбыли на обед. Вокруг меня тает послеполудененное марево; я смотрю в иссиня-чистое небо: в нем замерла белоснежная чайка. Того и гляди, дематериализуется и в этом мареве просто исчезнет. И реальность как-то сдвигается вбок, и я уже не уверена, то ли я тело, лежащее в шезлонге, то ли чайка, застывшая в полете и впечатавшаяся в голубое и глубокое небо и готовая раствориться в том небытии, которое изначально есть все.
Сегодня, как и в те далекие голубые дни, исчезли все страхи, как явные, так и подспудные, ушла внутренняя тревога, которая неустанно принимается цеплять сердце своим хищным и зазубренным когтем с того самого дня, как мы покидаем волшебный сад детства. Тело стало легким и гибким, морщины на челе — и те разошлись, уступив место безмятежной улыбке ребенка.
Однако был еще один неожиданный побочный эффект, который проявился чуть позже. Он не мог меня не радовать. И не только меня. Думаю, моих друзей тоже. Я постепенно стала обращать внимание на то, как изменился процесс принятия решений. Лично для меня это высвободило массу свободного времени, потому что когда путешествуешь, траекторию движения в незнакомом воздушном пространстве каждый день приходится прокладывать заново. Раньше ведь как было? До наступления эпохи Аяуаски, принятие любого мало-мальски значимого решения было для меня событием эпохальным, а, следовательно, делом ответственным и, вследствие этого, разумеется, затяжным. И вот почему.
Я предполагала, что какие-то из решений, принятых в ходе номадических перемещений по миру, могли в корне изменить ход событий и вынести меня на новую линию жизни. Но какие именно? И хочу ли я на эту новую линию попасть? И что это за линия? И вообще, зачем куда-то перемещаться, может быть, здесь тоже неплохо? Поэтому я долго разглядывала и взвешивала всю имеющуюся в наличности информацию — и не то, что бы ее было мало — просто она была на редкость обрывочной; изучала со всех доступных сторон все возможные варианты и ходы решений, экстраполируя как сами последствия каждого потенциального решения, так и последствия последствий.
Что и говорить, в свете такого глобального подхода процесс принятия решений становился делом непростым. Не говоря про то, что временами — просто мучительным из-за того, что я застревала между вариантами многомерной реальности. Мучительным не только для меня — для моих друзей тоже, ибо они, как говорится, всевышней волею Зевеса тоже оказывались втянутыми в этот процесс. Так что мы все вместе не могли не нарадоваться произошедшим переменам. Как это происходит теперь? Теперь стоило мне только задать себе вопрос — и ко мне сразу приходит ответ. Разумный, убедительный и окончательный в своей целостности. Это постепенно стало очевидно даже для меня самой. Поэтому я безо всякого сожаления оторвалась от разглядывания бесконечных туннелей вероятностей с их многократно отражающими зеркалами, которые так и норовили предательски заманить меня в непролазные дебри. Не зря все-таки говорят: Overanalysis leads to paralysis. По-русски в рифму не скажешь, но без рифмы, я думаю, это выразить как «паралич анализа». Есть такой парадокс выбора в теории принятия решений.
34. ШАМАНЫ И КУРАНДЕРОС
Еще в Панаме я читала рассказ одной аргентинки, принимавшей аяуаску. Она писала, что «её» шаман во время церемонии попадал в ее видения и видел то же самое, что видела и она. Я тогда еще подумала: с одной стороны, конечно, прискорбно: никакой тебе privacy, никакой тебе личной жизни. А с другой, обрадовалась: вот бы и мне так! Если он будет в курсе происходящего со мной, так потом сможет мне прояснить то, что из увиденного будет непонятно. Но, увы, ни один из моих курандерос способностями проникать в мои видения не обладал. Оглядываясь назад, я вижу, что, пожалуй, это было единственное, что их объединяло. Во всем остальном Хуан и Вилсон были разными.
Первый был индейцем из племени Шипибо. Заботливый, внимательный. И не побоюсь этого слова — нежный. А что, такое бывает? — скажете Вы… Ну, наверное, бывает. Если дистанцироваться и наблюдать со стороны. И ограничить наблюдение по времени. Но даже в свете этих всем понятных ограничений дон Хуан мне показался уникальным. Кроме того, были в нем спокойствие и уверенность — но не просто в себе, а в чем-то другом, более основополагающем, что выходило за пределы его индивидуальной личности. Думаю, дело в том, что он был частью большой пирамиды, в которой он как шаман занимал высокую ступеньку, хоть там ступенек, по правде сказать, раз, два и обчелся. Но важнее тут не количество ступенек, а наличие самой пирамиды. Ее существование обеспечивалась коллективной реальностью племени — реальностью общей для всех, потому что она базировалась на общей религии (то есть всем доступным, понятным и конкретным методикам связи с Высшим), общих культурных ориентирах и традициях. Так что в принципе шаманические способности были едины для всех, также как и аяуасковые знания; принципиальная разница между шаманами и не-шаманами заключалась, скорее, в уровне этих способностей и знаний. Но все участники пирамиды настраивались на звук одного и того же камертона: их камертоном была аяуаска.
Для Вилсона все складывалось по-другому. Он был целитель-местисо. Он был носителем знания, но знания индивидуализированного, потому что жил и работал вне поля мифологизированной реальности индейского племени. Если деятельность шамана была направлена — хоть бы отчасти — на благосостояние племени, то центром забот Вилсона была его частная практика. Целительство было его работой. Страстью, конечно, тоже, но работой в первую очередь. Я рискну выразить это так: что для дона Хуана было священнодействием, то для Вилсона было повседневным профессиональным трудом специалиста. А еще мне показалось, что Вилсон был из тех подвижников духа, кого больше интересовали не люди, а сами знания в чистом виде. Пациенты же были хороши тем, что на них приобретенные знания всегда можно было опробовать на деле.
Из рассказа Вилсона я узнала, что большую роль в том, что он стал целителем, сыграла его болезнь. В детстве он сильно болел. Чем именно — никто не мог понять, и врачи поставили на нем крест. Но ему хотелось, как и его сверстникам, бегать по улице, играть в футбол, прыгать с деревьев в Амазонку. Лет с двенадцати он стал уходить глубоко в сельву. Там он оставался один по несколько дней кряду, знакомясь с растениями, и там же он проходил свои университеты — рос такой себе Ломоносов джунглей. Потом в течение года он принимал аяуаску, три раза в неделю, и — благодарение аяуаске! — излечение свершилось. Силы к нему вернулись, а болезнь непонятной этиологии отступила.
— Но она навсегда оставила на мне свою печать. Силы, утраченные в детстве, уже было не вернуть, и высоким я так и не вырос, — от огорчения он развел руками в стороны — и в таком виде стал похож на коренастый равносторонний крест.
Вилсон говорил, что многие местные жители и сегодня видят в аяуаске прежде всего medicina, лекарство, возможность излечения от различных недугов, и к ней часто обращаются в тех случаях, когда традиционная медицина, обессилев, поднимает руки вверх и капитулирует. Это не могло не напомнить мне Кандомбле. Один из участников высшего звена как-то сказал в приватной беседе, что по доброй воле люди в Кандомбле не приходят. Их туда приводит нужда, иными словами, болезнь.