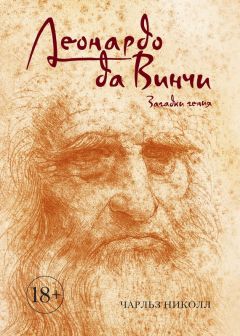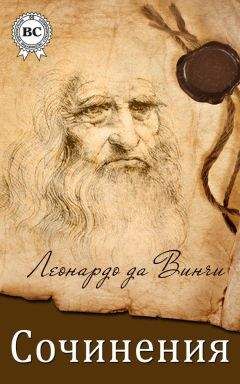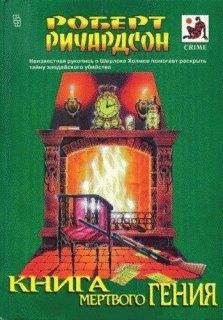Эдуард Шюре - Пророки Возрождения
Королевская милость была безгранична. Желая окончательно поселить художника в своем королевстве и нераздельно привязать его к себе, Франциск I увез его во Францию и предоставил ему замок Клу возле Амбуаза, его собственное обычное жилище. В 1517 г. мы находим Леонардо устроившемся в этом прелестном месте, между Туренью и Солонью. Единственными его спутниками были миланский дворянин Франческо Мельци, его верный ученик, и преданный слуга. Но он наслаждался своей полной свободой. Король назначил ему пенсию в 700 экю. Он показывал ему свои излюбленные места. Он привозил его в замок Блуа, где позолоченная конная статуя французского короля в рыцарских доспехах сверкала над входной дверью. Он поселил его в Амбуазском замке, который гордо обращает свои сторожевые башни к Луаре. Он прогуливался с ним в большом лесу, где король решил построить замок Шамбор – его четырьмя донжонами и лестницей, обращенной к ажурной баллюстраде, где изображена радостная череда нимф и сатиров, мы восхищаемся и поныне. И во время конных прогулок по извивам Луары необузданный монарх говорил мечтательному художнику: «Все, что ты видел, – ничто в сравнении с тем, что ты можешь сделать. Я предоставляю тебе свободу творить по твоему вкусу. Дворцы, статуи, картины – я найду прекрасным все, что выйдет из твоей головы. Я открываю неограниченный кредит твоему гению. Воображай, изобретай, твори; я воплощу твои мечты. Бери мрамор, бронзу и краски; я хочу населить свое королевство твоими трудами».
Вернувшись в поместье Клу, Леонардо принялся за работу. Инженер, он прежде всего создал план ирригации для Луарского бассейна. Архитектор, он предложил модель нового замка, который Франциск I хотел построить в Амбуазе. Вспомнив, наконец, что он художник, он заполнил свои картоны бесчисленными эскизами на религиозные и светские темы. Почему же они казались ему столь унылыми? Почему ни один из них не захотел ожить в красках? Увы! Жестокая ирония судьбы: как раз тогда, когда он нашел короля по сердцу, предложившего ему осуществить самые дерзкие проекты, великий художник почувствовал себя сокрушенным возрастом, побежденным усталостью и охваченным физической и моральной тоской, которая так контрастировала с его бурлящей юностью и неугасимым огнем его зрелого возраста. В эпоху его триумфальной славы при Лодовико Моро он создал план павильона для герцогини Беатриче, который собирался украсить полотнами на тему легенды о Вакхе, вливая в греческий миф глубокие мысли, внушенные ему изучением Природы и ее царств. Также часто, прогуливаясь под многоцветным сиянием витражей в темном Миланском соборе, он мечтал написать серию фресок об истории Христа, равных тем, что он создал для Санта Мария деи Грацие. В своих трудах он бы осветил божественную традицию своим знанием душ и их иерархии, подобной иерархии ангелов, поднимающихся и спускающихся по лестнице Иакова. Мадонны и Святые семейства Леонардо были лишь частичными черновыми набросками его грандиозных замыслов, которые он хотел бы исполнить со всей тщательностью из-за своего стремления к совершенству. Что он сделал из всего этого? Ничего или почти ничего. Грустно всплыли такие эпизоды. Все это омрачилось вместе с основной идеей в крушении его существования. Он пропустил высокий час вдохновения, когда видения сверкали перед глазами, точно живые существа, когда надо было захватить их из опасения потерять навсегда. Но теперь было слишком поздно! Леонардо уже чувствовал, что его мысль улетает и что паралич медленно завладевает его правой рукой. Быть может, для него было пыткой подчинение искусства науке? Эта высокая Наука, которая обещала ему тайну всех вещей, обманула его. Она, конечно, могла раскрыть вторичные причины, но первопричины от него ускользали. Напротив, создавая свои шедевры, Леонардо чувствовал, как в нем теплится Божественная искра. А не является ли для человека разжигание в себе этой искры единственным средством богопознания? Единственный путь, чтобы приблизиться к Нему, – молитва ли это или энтузиазм, экстаз или творчество?
Это возвращение к прошлому привело Леонардо к другой, не менее горькой догадке. То, что он не предался целиком искусству и своему вдохновению, привело к тому, что он не только не завершил свой труд, но и не разрешил до сих пор тот вопрос, который поставил в своих научных изысканиях. Он не разгадал загадки Природы-Сфинкса. И однако тонкий покров, который окутывает мировую тайну, казалось ему, приоткрылся дважды: когда он писал голову Медузы и когда он делал наброски головы Христа, свет пронзительный и короткий, как вспышка. Дважды покров вновь опускался и оставлял его во тьме. Теперь, в конце своей жизни, в угрожающих тисках старости, при почти полном крушении своего труда, тайна Зла и тайна Божественного являлись перед ним, словно два беспокойных метеора. Она вновь поднялась из бездны, эта страшная отрезанная голова со своим умерщвляющим взглядом и клубком змей. Она вновь сошла с небес, эта голова Иисуса, с мягкой улыбкой бесконечного милосердия. Но он не осмеливался более их вопрошать, ибо обе говорили ему: «Враждующие божества, мы вечно господствуем над Природой и над человеком. Но нельзя служить нам обоим. Ты, посмевший призвать нас вместе, попробуй только попросить у нас совета. Мы запрещаем тебе!»
Так жизнь великого мага живописи, который столь чистосердечно искал глубокую истину реального и невыразимую красоту идеала, окончилась в безнадежности сомнений и бессилия.
До нас дошло свидетельство этого мрачного настроения, этого скрытого пессимизма. Это незабываемый автопортрет Леонардо, выполненный сангиной, который находится в Туринском музее. Это лишь несколько карандашных штрихов редкой тонкости, но этот портрет с поразительным сходством вопиет о правде. Никогда старческая меланхолия не была передана с такой энергией. Мощное лицо выступает из-под седых волнистых волос и бороды. Высокий лоб с залысинами изборожден морщинами, указывающими на интенсивность мысли. Из-под густых бровей глаза посылают пронизывающий взгляд на враждебный мир. Нижняя губа выпячена в пренебрежительной гримасе. Какое трагическое признание в этом остром взгляде, в горькой складке рта! Этот человек все видел, обо всем судил, все выстрадал. Он ничего больше не ждет. И однако какой-то свет, еще сияющий над его опустевшим челом, напоминает, что некогда его осенял божественный луч. Это голова льва, пусть побежденного старостью, но все же льва.* * *С того далекого дня, когда Леонардо расстался с Моной Лизой, он отодвинул ее образ на задворки памяти. Но этот образ жил там, словно божество, скрытое в святилище богов-ларов. Их последняя встреча, их душераздирающее прощание, торжественные и угрожающие слова Джоконды разрывали его сердце. По каждому женскому лицу, написанному им, невольно проскальзывала под его кистью улыбка Джоконды. Странная вещь: он черпал лучшее в своей жизни из образа этой женщины, чью любовь он отверг. Когда Леонардо показал чудесный портрет Франциску I, тот воскликнул: «Эта женщина прекраснее всех женщин на свете, ибо она заключает в себе их всех, и поскольку я не могу получить оригинал, я хочу по крайней мере владеть этим портретом». При этих словах Леонардо побледнел. Он вновь ощутил невидимое жало, пронзившее ему сердце. Он упрекал себя, что вторично предал Лизу, передавая своему легкомысленному покровителю это священное изображение. Но он должен был уступить: как мог он отказать щедрому королю, которому он был обязан всем? [38] Когда жертва была принесена, сожаления художника стали еще живее. Ему казалось, что он лишился доброго гения, который его хранил. Не совершил ли он одно из тех тайных преступлений, которые избегают человеческого правосудия, но за которые тем более жестоко карают боги? Он расстался с тем, что было ему дороже всего… он продал обожаемую дочь бессмертной любви! Так начались для него ужасные дни. Богиня, идолу которой он поклонялся, вышла более властной из своей бездны, вооруженная новым гневом и новым могуществом. Вызванная из елисейских полей воспоминаний, более реальная, более живая, чем когда-либо, тень Моны Лизы преследовала его в двух разных видах. То обворожительная, оживленная, она скользила на коленях одинокого старца, оплетала его руки и шептала ему на ухо: «Если бы ты любил меня, как я тебя любила, мы бы вместе достигли нашего рая, но теперь слишком поздно – слишком поздно!» То она являлась перед ним одетая в черное, словно кладбищенская плакальщица, с факелом в руке. И ее уста произносили роковые слова дня прощания: « Все Добро – в Любви, все Зло – без нее! » Произнеся эти слова, она поворачивала факел и гасила его о землю.
При этом страшном воспоминании, при этой угрозе дорогой тени, превратившейся в Немесиду, Леонардо содрогался. Бессвязная груда странных гипотез, беспокойство и растерянность охватывали его. Что стало с Джокондой в ее Мареммском замке? Вынесла ли она затаенную мстительность своего мужа? До какого предела она дошла? Жива ли она еще или положила конец своему грустному существованию героическим самоубийством? Тщетные вопросы, неразрешимая загадка прекрасных душ в водовороте Вселенной. Между ними отныне проходила непреодолимая бездна, вечное молчание. И холодная змея упреков обвилась вокруг заледеневшего сердца старого мага, сраженного немощью.