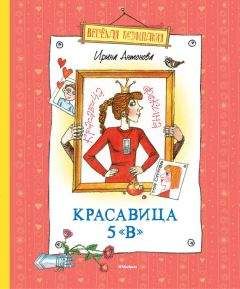Ральф Ротман - Юный свет
– Тихо!
Да я вообще не произнес ни слова. Я только таращился. На ней была голубая футболка, и она стояла перед толчком, раздвинув ноги, насколько позволяли тонкие, спущенные до колен трусики. Кожа цвета загара с нежным мерцающим блеском. Почти что каждый день она ездила в Альсбахталь, на единственный бесплатный пляж поблизости. Там, где обычно надет купальник, тело Маруши было белым, и ее небольшой, но густой волосяной покров блестел, как шерстка крота. Она смотрела на меня, не двигаясь, словно ожидала, что я отступлю. При этом она что-то зажимала промеж мускулистых ног, то ли полотенце, то ли вату. Я быстро закрыл дверь.
Пошел назад в кухню. Лиса уже убежала, а я встал на цыпочки и пописал в раковину. У Маруши в комнате был только умывальник и ночной горшок с крышкой, который она выносила по утрам. Насколько я знаю, она еще ни разу не пользовалась нашим туалетом, хотя мать ей и разрешила. Что называется, в крайних случаях…
Поэтому входная дверь никогда не запиралась. Я открыл кран и смыл потеки.
На подвесной полке тикал будильник. Через час проснется отец и начнет готовиться к смене. Я открыл морозилку, прибавил холоду и взял из бумаги еще один кружок колбасы. Но когда я уже держал его в руке, я неожиданно рыгнул, кисловатый привкус чая ударил мне в нос, и я положил колбасу назад и закрыл холодильник.
Я уже не чувствовал себя таким разбитым. В туалете прошумел спуск, Маруша вышла, не обращая никакого внимания на скрип половиц, не таясь, прошла к двери, а я тихонько сказал:
– Т-с-с.
Она испугалась, положила руку на грудь и на секунду закрыла глаза. Она стояла в свете луны, и мне было видно прокладку у нее в трусиках, чистую и белую.
– Тебе обязательно так меня пугать?
Это был даже не шепот, она словно выдохнула слова, а я ухмыльнулся.
– Ты поранилась?
Она недоуменно чесала затылок.
– Чего – я? Иди спать, малыш. Скоро утро.
– Ну и что?
Я облокотился на дверной косяк, скрестил руки на груди.
– У меня каникулы.
– Это у тебя. – Она зевнула. – А у меня с утра собеседование. У Кайзера и Гантца.
– В Штекраде? Что ты там забыла? Будешь гардины продавать?
Она не ответила, показала на спинку дивана, на пачку сигарет.
– Возьму одну?
Я пожал плечами.
– Это моего отца. Они без фильтра.
– Ну и что? Думаешь, наделаю в штаны?
– Да это ты уже сделала.
Она заправила локон за ухо, и в свете луны ее улыбка показалась мне гораздо более лучистой, чем обычно.
– Что – я? – Затем она выбила один Gold-Dollar из пачки. – Скажи, ты хоть и миленький, но у тебя что, винтиков не хватает или как? – Она вышла на лестничную площадку, кивнула головой. – Пошли, поболтаем немножко.
Я отлепился от дверного косяка.
– С чего это я вдруг миленьким стал?
Но она не ответила и исчезла в своей комнате. Я там еще никогда не был, разве что заглядывал с нашего балкона. И хотя одна створка окна была открыта, пахло чем-то сладким, как пропотевшим постельным бельем. У вырезанной из постера в натуральную величину фигуры Грэхема Бонне[6] не хватало одной ноги, а на маленькой полочке с книжками Энид Блайтон[7] лежала деревянная блок-флейта. Лак с мундштука совсем облез. На коврике перед шкафом стоял новенький проигрыватель, переносной, на батарейках, с щелью для сорокапяток. Некоторые из них были разбросаны на полу: She Loves You, Marble, Stone amp; Iron, Pour Boy. Маруша уселась на старенькую кровать.
Она подоткнула одеяло вокруг бедер и откинулась на деревянную спинку кровати с резными фруктами – яблоками и виноградом. Потом понюхала сигарету, закурила и, прежде чем выпустить дым, сплюнула табачную крошку. Я подошел к маленькому письменному столу, усыпанному десятком фотографий на паспорт. На большинстве из них на лице у нее виднелись прыщи.
– Ну и когда ты съезжаешь?
Наморщив лоб, она пристально смотрела на тлеющую сигарету.
– Не въехала. Это шутка?… Что ты такое говоришь? Зачем мне съезжать?
– Ну, если ты теперь работаешь… То можешь и квартиру снять или нет?
– Ты что, рехнулся? Будучи ученицей?
– Или переехать к своему другу.
– Какому другу?
– Ну, к этому, у которого мотоцикл «крайдлер».
– К Джонни? – Она хмыкнула. – Ну, ты даешь! Да я ему даже ноги целовать не позволю. Или ты считаешь, что он симпатичный?
– Да не знаю я. Нет, наверное. И все время дерется.
– Вот именно. – Она посмотрела на клубы сигаретного дыма под лампой. – Он сильный.
– Но совсем не подходит тебе. У него такие шрамы.
– Где это? А, ты имеешь в виду под подбородком? Ну, да… На мужчинах шрамы не выглядят так отвратительно. Скорее даже наоборот, подогревают интерес.
– Как бы не так. У моего отца тоже вон полно шрамов. Еще с войны и от ударов камней в шахте. И угольная пыль в них въелась. Если б у меня было столько шрамов, я сделал бы себе пластическую операцию.
Она прикрыла глаза, а на лице у нее заиграла снисходительная улыбка. В волосах застряла пушинка.
– Так твоя мать ложится сейчас в больницу?
Я пожал плечами, сел на стул.
– Понятия не имею. Надеюсь, что нет. Иначе мне придется целыми днями пасти сестру.
– Ну и что? Маленькие девочки такие сладенькие. Они так за тобой увиваются. – Она выпустила носом дым и стряхнула пепел на край крышки от баночки с кремом, стоявшей под ночником. Внутри лежала обсосанная карамелька. – Тогда у тебя была бы свободная хата, ты мог бы пригласить приятелей и свою подружку…
– Кого? – Я подтянул ноги на сиденье, обхватил колени руками. – Нету у меня никакой подружки, ты чего! Мне всего двенадцать.
Она кивнула. На карамельке – налипшие кусочки стриженых ногтей.
– Ну, ты ведь уже подрачиваешь?
Я почувствовал, как горит лицо, словно меня подключили к току. Маруша захихикала.
– Бог мой! Что я такого сказала! Ты весь красный!
– Вовсе нет.
Слова застряли в горле. Мне не хотелось разговаривать на эту тему, и я сделал вид, будто зеваю. Маруша запрокинула голову и выпустила несколько ровненьких колечек дыма под потолок. Потом почесалась под одеялом.
– Не кисни… Скажи, а что все-таки у твоей матери?
– Как что? Я же сказал – желчный пузырь.
– Понятно. Мне кажется, она все время тебя колотит. Что ж ты так ее достаешь? Ты ведь милый мальчик, правда?
– Понятия не имею. Да и бьет она меня не очень часто.
– Рассказывай! Мне все слышно. Почти каждую неделю. Она о вас поварешку разбила.
– Не говори, чего не знаешь. Софи еще маленькая. А я иногда такое отмачиваю. Из школы сбегаю, или еще чего. А то прихожу весь в грязи…
– Все равно это не повод, чтобы бить ребенка.
– Ну, уж прямо! А тебе не влетает? Твой отец тебе тоже вклеивает.
– Чей отец? У меня нет отца.
– Ну, Горни. Когда ты собралась в церковь в короткой юбке. Помнишь?
– Это мое дело. И если он меня еще хоть раз тронет, я точно пожалуюсь Джонни. Тот встретит его после смены у выхода из шахты. – Подложив под затылок подушку, она откинулась в угол, протянула мне недокуренную сигарету. – Мне уже почти шестнадцать. И я никому не позволю собой командовать. Не будешь так любезен… – Она почмокала губами. – На вкус как солома.
Я встал, затушил бычок о жестяную крышку, а она сняла подаренные ей колечки, четыре штуки, и положила их на подоконник. Потом потянулась, зевнула, а я подошел к кровати и показал ей свою рану – медленно заживающую мякоть большого пальца.
– Гляди. У меня тоже будет шрам.
Ухмыляясь, она схватила мою руку. Ее пальцы были теплыми и сухими, и когда она наклонилась, я смог заглянуть ей за футболку, увидеть золотой якорек, висевший на тонкой цепочке промеж грудей.
– Никакого шрама не будет, малыш. Так, царапина.
Я сглотнул.
– Нет, будет шрам.
Рука начала дрожать. Она держала меня не слишком крепко, но и не отпускала, поглаживая кончиками пальцев мою ладошку, совсем нежно, будто воздух перебирала. Потом, смеясь, посмотрела мне в глаза.
– Опять покраснел. Тебе нравится?
Я помотал головой, отпрянул назад, возможно, немного резко. Коврик у кровати заскользил под ногами, и я наступил на пластинку Удо Юргенса[8].
– Ах, черт. Я не нарочно. Прости, пожалуйста.
– Ерунда. – Она опять легла на подушку. – Тем более, что это пластинка твоей матери.
Я нагнулся и, чтобы скрыть оцепенение, сел на корточки. У нас было только три пластинки: одна – Криса Хауленда[9], вторая – Риты Павоне[10], а третья – Билли Мо[11]. Эту я видел впервые.
– Что-то новенькое? Должно быть, купила в городе. И как? Ничего?
– Не знаю. Сойдет. Можешь забрать ее назад.
Она натянула тонкое одеяло до подбородка и высунула наружу ноги, так что я смог разглядеть пальцы с темным лаком на ногтях. В некоторых местах она закрасила им и кожу.
– Зачем? Раз мама дала ее тебе, значит, можешь слушать и дальше.
Маруша глубоко зевнула, при этом слегка фыркнула.
– Она мне ее вовсе не давала. – Потом закрыла глаза и отвернулась к стенке. – Я сама взяла ее послушать. Будешь выходить, погаси свет, ладно?