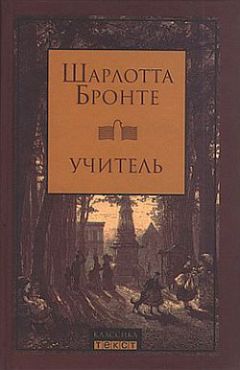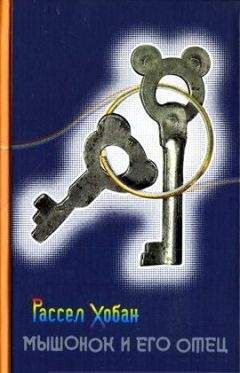Стелла Гиббонс - Неуютная ферма
Воплинг остался позади, и тарантас начал взбираться на холм.
– Мы почти приехали?
– Да, дочь Роберта Поста.
Через несколько минут Аспид остановился перед едва различимыми воротами. Адам стегнул его бичом, однако мерин не двинулся с места.
– Думаю, это конец дороги, – заметила Флора.
– Никогда так не говори.
– Буду говорить. Смотрите, еще немного, и мы въедем в изгородь.
– Все одно, дочь Роберта Поста.
– Для вас может быть, а для меня – нет. Я вылезу.
Спрыгнув на землю, Флора отыскала во тьме, подсвеченной лишь бледными зимними звездами, скользкую дорожку между двумя рядами живой изгороди, слишком узкую для тарантаса.
Адам, оставив Аспида у ворот, пошел за ней с фонарем.
Из мрака постепенно проступало здание. Когда Адам с Флорой приблизились, дверь внезапно приоткрылась и наружу хлынул свет. Адам испустил радостный возглас:
– Это хлев! Наша Неумеха открыла мне дверь!
И Флора увидела, что все так и есть: дверь хлева толкала носом тощая коровенка.
Особого оптимизма это у Флоры не вызвало.
Однако тут же глухой голос спросил: «Это ты, Адам?». В двери показалась женщина с фонарем и подняла его над головой, освещая новоприбывших. Флора смутно различала избыточно красную шаль и копну темных волос.
– Добрый вечер! – крикнула она. – Ты, наверное, моя кузина Юдифь? Спасибо, что вышла встретить меня в такой холод. И большое спасибо, что пригласила меня к себе. Мы ведь раньше не встречались?
Она протянула руку, однако Юдифь только выше подняла фонарь, пристально изучая ее лицо. Шли секунды. Флора подумала было, что у нее губная помада неправильного оттенка, потом сообразила, что причина молчания более серьезна. Флора чувствовала себя Колумбом под немигающим взглядом туземца. Первый раз представительница рода Скоткраддеров видела перед собой культурного человека.
Впрочем, такое созерцание в конце концов утомляет, утомило оно и Флору. Она спросила Юдифь, не сочтет ли та за невежливость, если знакомство с другими членами семьи отложат до завтра? Она предпочла бы поужинать у себя в комнате.
– Там холодно, – проговорила наконец Юдифь.
– О, камин быстро ее прогреет, – решительно ответила Флора. – Спасибо огромное за хлопоты.
– Мои сыновья, Сиф и Рувим… – Голос сорвался, однако Юдифь взяла себя в руки и закончила: – Мои сыновья ждут кузину, чтобы с ней познакомиться.
Все это вместе с пугающими именами чересчур напоминало выставку крупного рогатого скота, поэтому Флора только улыбнулась, сказала, что чрезвычайно тронута таким вниманием, однако предпочитает отложить встречу до завтра.
Юдифь пожала могучими плечами, так что ее объемистый бюст заколыхался.
– Как знаешь. Камин, наверное, чадит…
– Ничуть не сомневаюсь, – улыбнулась Флора. – Однако это можно будет поправить и завтра. Так что, идем. Но прежде… – открыв сумку, она достала карандаш и вырвала листок из записной книжки, – я попрошу Адама отправить телеграмму.
Ей удалось настоять на своем. Через полчаса она уже сидела у чадящего камина в своей комнате и задумчиво ела два вареных яйца. На них Флора остановила свой выбор, решив, что это будет самое безопасное; домашняя ветчина, а уж особенно поджаренная Адамом, могла бы повредить долгому сну, который Флора для себя наметила и к которому вскорости принялась готовиться.
Она так устала, что почти не обращала внимания на обстановку комнаты. Решение приехать сюда казалось все менее разумным. Флора вспоминала длинные запутанные коридоры, которыми вела ее кузина и подумала: если весь дом такой же и если Адам и Юдифь – типичные представители здешней публики, то превратить «Кручину» в культурное место будет непросто. Однако она возложила руку на плуг[13] и не собиралась озираться, зная, что в таком случае миссис Смайли скроит гримаску, которая у менее утонченной женщины означала бы: «Ну я же тебе говорила!»
И впрямь далеко на Маус-Плейс миссис Смайли в эту минуту с удовольствием читала телеграмму, гласившую: «ХУДШИЕ СТРАХИ ОПРАВДАЛИСЬ ДОРОГАЯ СИФ И РУВИМ БОТЫ ТОЖЕ ОТПРАВЬ».
Глава 5
Проспать допоздна Флоре не удалось, поскольку ни свет ни заря у нее под окнами началась ожесточенная ссора.
Гневные мужские голоса доносились из-под покрова мертвой, угрюмой тьмы, нарушаемой далеким кукареканьем. Одного из говорящих Флора вроде бы узнала.
– Негоже, мастер Рувим, кусать руку, которая тебя холила и люлюила. Кто лучше меня знает нужды бессловесной скотины? Не для того я вскармливал нашу Невезуху, когда она была трех дней от роду и слепа, как курица. Я понимаю ее сердечко лучше, чем черные сердца иных людей.
– Да плевать! – кричал другой человек, голос его был Флоре не знаком. – Нескладеха потеряла ногу! Где она? Отвечай мне, безмозглый старикан! Кто теперь купит Нескладеху, когда я отведу ее на Пивтаунскую ярмарку? Кому нужна трехногая корова, кроме цирка уродов?
Тьму разорвал истерзанный вопль ужаса:
– Не отдавайте нашу Нескладеху в цирк, мастер Рувим! Я не переживу такого позора!
– Отдал бы, хоть в цирк, хоть куда, найдись на нее покупатель, да где ж его взять. Вечно одно и то же, ничего нашего люди не берут. Наша пшеница скукожилась от золотухи, клевер побило почесухой, а сено поразила парша, наши свиньи не родят, и все остальное так же. Где нога? Отвечай, где?
– Не знаю, мастер Рувим. А знал бы, не сказал. Мне ведомо, что на сердце у бессловесных скотов, и для этого незачем дни напролет следить, где они теряют свои ноги. Скотине, как и человеку, нужны одиночество и спокой. Я бы постыдился смотреть на коров, как вы, мастер Рувим, пересчитывать кажную былинку у них во рту да ждать наследства при живом отце.
– Да, – угрожающе вмешался еще один человек, – и пересчитывать каждое курячье перышко, чтобы никто его не поднял.
– А почему б и не пересчитывать? – заорал тот, к кому обращались «мастер Рувим». – Для того ли я плачу тебе деньги, Марк Скорби, чтобы ты собирал курьи перья, носил их в Пивтаун и продавал за звонкую монету?
– Не продавал я их. Чтоб мне больше не браться за плуг, ежели вру. Я их отношу моей Нэнси.
– Вот как? И зачем же?
– Мы все знаем зачем, – угрюмо отвечал третий голос.
– Да, помню, ты плел, будто она украшает ими кукольные шляпки. Будто добрые куриные перья ни на что больше не годны, кроме как на шляпки для бездельниц-кукол. Так вот, послушай меня, Марк Скорби…
Тут Флора поняла, что все равно точно не уснет, так что сердито вскочила с кровати и на ощупь добралась до серого прямоугольника окна. Она чуть шире открыла створки и закричала в темноту:
– Не могли бы вы разговаривать чуточку потише? Я была бы вам чрезвычайно признательна, поскольку очень хочу спать.
Ей ответила тишина, выразительная, как раскат грома. Даже в полусне Флора чувствовала, что это изумленное молчание. Она надеялась только, что изумление будет долгим и она сможет вновь провалиться в дрему. Так и вышло.
Когда Флора опять проснулась, уже окончательно рассвело. Она встала, старательно потянулась и взглянула на часы. Было половина девятого.
И двор, и старый дом были совершенно тихими, будто все, кто тут жил, умерли в одну ночь.
«Горячей воды, разумеется, не добыть», – думала Флора, обходя комнату в халате. Тем не менее ей удалось выдавить из рукомойника несколько капель (да, тут был настоящий металлический рукомойник), и оказалось, что вода – мягкая, а значит, можно умываться холодной. Стройный ряд фарфоровых скляночек и флакончиков на туалетном столе призван был защитить нежную кожу от суровости местного климата, но приятно было сознавать, что вода будет ее союзницей.
Одеваясь с приятной неторопливостью, Флора оглядела спальню и решила, что ей тут нравится.
Комната была квадратная, с необычно высоким потолком, оклеенная обоями с некогда ярким, а сейчас выцветшим багровым рисунком на красном фоне. Изящный камин венчался искусно вырезанной мраморной полкой, пожелтелой от времени и дыма; гнутая металлическая решетка выступала наружу. На полке лежали две большие раковины; в большом старом зеркале над камином отражались их плавные бело-розовые изгибы.
Другое зеркало, высокое, стояло в самом темном углу спальни и закрывалось дверцей буфета, когда тот бывал открыт. Оба зеркала отражали Флору без лести или наоборот, и она решила, что им можно доверять. Почему, гадала она, в наше время разучились делать зеркала? Старые – в захудалых провинциальных гостиницах и в домах у викторианских родственников – всегда бывали превосходны.
Одну стену почти целиком занимал платяной шкаф красного дерева; такой же круглый стол стоял на середине протертого красно-желтого ковра с орнаментом из крупных цветов. Кровать была высокая, тоже из красного дерева и покрыта белым ажурным покрывалом.
На стене висели две гравюры в желтых деревянных рамах: «Горе Андромахи при виде убитого Гектора» и «Пленение Зенобии, царицы Пальмиры»[14].