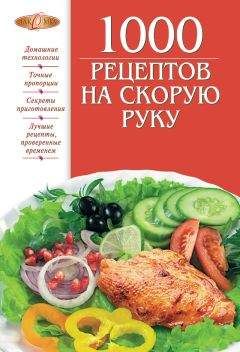Паоло Джордано - Черное и серебро
– Пожалуй, мне так даже больше нравится, – говорит она, а я не понимаю, подбадривает ли она себя или на самом деле так думает. С синтетическими волосами она не похожа на себя прежнюю, она – другая и в то же время та же.
Нам объясняют, как ухаживать за париком: его можно причесывать, мыть деликатным шампунем, но не часто – этого не требуется, волосы парика не пачкаются, как наши (вежливая девушка использует слово «наши» вместо «настоящие»).
– А теперь вы можете выбрать ночной чепец, мы его дарим, есть разные цвета. «Зеленая мята» – вам нравится? А вам как? Под цвет ваших глаз. Погодите! Погодите, я помогу снять.
Синьора А. придерживает парик обеими руками.
– Нет! Я в нем останусь! Если можно. Чтобы привыкнуть.
Девушка невольно глядит на нее с грустью и досадой.
– Да, конечно можно! Теперь он ваш.
Из магазина мы выходим под ручку. Синьора А. гордо шагает в парике.
– Давайте не скажем Норе, посмотрим, заметит ли она, – предлагает синьора А.
Я отвечаю, что согласен, что она здорово придумала – устроить проверку, а тем временем пишу жене СМС: объясняю, что Бабетта придет в парике и что Нора должна сделать вид, будто ничего не заметила.
В спешке мы забыли деревянную подставку. Я заезжаю за ней несколько дней спустя, один. Говорю той же продавщице:
– Простите, но синьора потеряла голову. – Девушка даже не улыбается, словно я весьма плоско пошутил.
Я оставляю манекен в машине, на пассажирском сиденье, чтобы отдать его синьоре А. при следующей встрече. Иногда я с ним разговариваю. Однажды я подвожу домой молодого коллегу. Садясь в машину, он с удивлением берет в руки деревянную голову. «На что она тебе?» – спрашивает он. Потом, не дав мне ничего объяснить, понарошку целует отсутствующие губы.
Комната реликвий
Синьора А. не облысеет ни после первой, ни после второй химии. Зато, что значительно хуже, ее постоянно тошнит. Она расставила тазики в трех стратегических точках (у дивана, под кроватью, в ванной) и, как ни в чем не бывало, рассказывает, что регулярно ими пользуется. Она никогда не стеснялась говорить о теле, человек она прямой, из тех, как сказала бы она сама, кто выкладывает все как есть. Но ее раздражает, что все вокруг спрашивают ее о здоровье. О раке знают только Джульетта и еще две подруги – вроде не сплетницы, но синьора А. понимает, что всем нравится судачить о болезнях, в прошлом и она готова была часами обсуждать чужое здоровье. Ну да ладно. Менее чем за месяц она похудела на шесть килограммов и заметно осунулась, ничего удивительного в том, что все интересуются ее самочувствием. Чтобы избежать неприятных разговоров, она старается как можно реже выходить из дому, а продукты покупает на рынке в Альмезе, в нескольких километрах от дома: все равно она проезжает Альмезе по дороге из больницы.
Врачи запретили ей сырые овощи, консервы с оливковым маслом и колбасы – все, в чем могут скрываться бактерии, представляющие угрозу для ее ослабленной лекарствами иммунной системы, нечто вроде диеты для беременной, на которой ей никогда не доводилось сидеть при более счастливых обстоятельствах. И как беременная женщина в редкие часы, не занятые лечением и его неприятными последствиями, она все чаще мечтает о тех или иных блюдах, о том, как с иронией говорит она сама, «на что ее тянет».
Однажды она садится в машину и проезжает много километров только потому, что ей вспомнился хлеб, который выпекают в дровяной печи в Джавено. Никогда в жизни ничего подобного она себе не позволяла, и все ради примерного поведения, из уважения… к чему? Прежде ей не раз хотелось этого хлеба, но она не решалась за ним поехать: разве стоит долго петлять по дороге из-за какого-то каприза. Теперь она цепляется за свои желания, будит их, потому что каждое из них означает всплеск жизненной силы, отвлекающей ее хотя бы на считанные минуты от невыносимой мысли о болезни.
Из ее холодильника сперва исчезает пармезан, потом сыр как таковой, красное и белое мясо. Мясо – объясняет мне она – никак не связано с рвотой, просто она почти не чувствует его запах и вкус, а жевать кусок мяса, не чувствуя его вкуса, – все равно, что держать во рту что-то мертвое и все время помнить о том, что оно мертвое: в результате ты просто не можешь его проглотить.
– Вчера мне захотелось горошка и яиц. Я их приготовила и с удовольствием съела. А потом резко кашлянула, и меня вырвало. Ну все, горошек и яйца остались в прошлом.
Синьора А., не отказывавшаяся от самых смелых традиционных блюд, от запеченных лягушачьих лапок, вареных улиток, голубей и требухи, мозгов и жаренных в масле потрохов, больше не может съесть самое обыкновенное блюдо – яйца с горошком.
– А вода, ты представляешь? Меня от нее тоже мутит. – С декабря в течение отпущенного ей последнего года жизни она будет пить только газированные напитки – кока-колу, фанту и кинотто, а питаться в основном сладостями, как избалованная и непослушная девчонка.
Я решаю ее навестить. Зная об абсурдной диете, я покупаю печенье «Поцелуи дамы» (убедившись, что оно имеет успех, я всякий раз буду являться к ней с этим печеньем, до самого конца, до последнего раза, когда она даже его не станет есть). Одним прекрасным солнечным воскресеньем мы едем к ней с Эмануэле, который, чтобы сделать приятное своей покинувшей пост няне, нарисовал яркий, почти кислотный рисунок, на котором крылатые нимфы с розовыми, сиреневыми и синими волосами плывут по небу, полному чудовищ.
– Это кто? – спрашиваю я.
– Нежные феи.
– А это?
– Покемоны.
– А-а.
Жаль, что потом он решает упаковать рисунок: мнет его и облепляет скотчем. Синьоре А. он вручает ком жеваной и липкой бумаги. Она в растерянности откладывает его в сторону. У нее больше нет времени разбираться в не вполне ясных творческих порывах Эмануэле, теперь ей надо заботиться о собственном теле, помнить, какие принять лекарства, думать не столько об их пользе, сколько о побочных эффектах. Я не сомневаюсь, что, как только мы уйдем, рисунок окажется в мусорном ведре.
Эмануэле этого не понять, не понять эгоцентризм, на который обрекает ее болезнь, ему кажется, что синьора А. всегда будет той, что заботилась о нем, о нем и ни о ком другом, той, что вслед за ним карабкалась по крутым тропинкам его фантазии и баловала его, как принца. Заметив ее равнодушие, он начинает нервничать и дерзить, а я понимаю это по тому, как меняется его голос – он всегда так делает, когда хочет привлечь к себе внимание. Но у синьоры А. нет ни сил, ни желания понять, что с ним происходит. Я оказываюсь между двух огней, где смешались обманутые ожидания и досада: с одной стороны – больная пожилая женщина, с другой – ученик начальной школы, оба хотят, чтобы все внимание было приковано к ним, потому что боятся, что иначе они и вовсе исчезнут.
Я отправляю Эмануэле поиграть во дворе, хотя на улице холодно. Он протестует, но в конце концов уступает. С порога он бросает на меня испепеляющий взгляд.
В квартире синьоры А. есть комната, в которой многие годы отключено отопление, – эта комната, не похожая ни на гостиную, ни на кабинет, напоминала, скорее, реликварий. Если я заходил туда зимой, когда температура в комнате была как минимум градусов на десять ниже, чем в других помещениях, мне казалось, будто я спускаюсь в катакомбы. На окнах были витражи с изображенными в профиль женскими лицами (имени художника я не помню, но синьора А. всегда отзывалась о нем с большим почтением), поэтому проникающий в комнату свет был тусклым, как в надгробной часовне. Все в этой комнате рассказывало о Ренато.
В стене была ниша с полками, на каждой выставлена отдельная коллекция. Смешение эпох и стилей свидетельствовало о том, что собирал коллекцию человек крайне непоследовательный или напрочь лишенный предрассудков: десяток статуй доколумбовой эпохи, несколько причудливых пресс-папье, каких я больше нигде не видел, довольно безвкусная скульптура из цветной керамики и разномастная серебряная и латунная посуда. В центре комнаты, на низеньком столике-витрине, на зеленом сукне были разложены на одинаковом расстоянии друг от друга десятка два карманных часов, причем стрелки у всех указывали на полдень. Пестрая коллекция выдавала мечту Ренато превратиться из старьевщика в знатока искусства – всю жизнь он стремился ее осуществить, но добиться полного воплощения не сумел. Синьора А. это понимала, а может, не понимала – трудно сказать, но она ни за что на свете не признала бы, будто у ее мужа отсутствовал безупречный вкус. Среди всех занятий, которые ей довелось перепробовать, помощь мужу в торговле антиквариатом была самым неожиданным и волнующим, – вспоминая об этом, она и сейчас испытывала гордость.
Главные ценности – около полусотни полотен разного размера с подписями авторов – прятались за лакированной ширмой, расписанной в восточном стиле. Я точно помню, что среди них были работы Алиджи Сассу и Романо Гадзерры, по крайней мере, пара работ школы Феличе Казорати, несколько футуристов, хотя и не самых известных. Синьора А. рассказывала мне и о картине маслом Джузеппе Миньеко «Молодожены», которую Ренато так и не продал, несмотря на настойчивые просьбы одного врача – тот всякий раз предлагал бо́льшую сумму; эта картина, – говорила она, – напоминала их с Ренато, а еще нас с Норой.