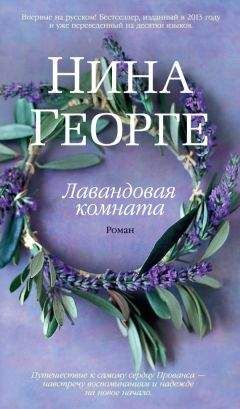Антония Байетт - Детская книга
– «Я обнажен – и ты должна разоблачиться: / Обилием одежд пристало ли кичиться?» – процитировал он. Олив не знала, откуда эти стихи. Он расстегнул ее пояс и принялся за пуговицы.
– Все равно, – сказала она, обретя наконец голос, – ты прав, я действительно думаю, что это ошибка, и мне стыдно.
– Естественно, ты так думаешь, и естественно, что тебе стыдно, – отозвался он, сняв с нее платье и принимаясь за белье. – Но уж я постараюсь, чтобы ты об этом забыла. Потерпи, уже совсем скоро.
И она, обнаженная, бросилась в кровать, не распуская волос, чтобы Герберт не успел разглядеть ее увядшей, изборожденной временем кожи.
* * *Во время соития он много говорил. В отличие от Хамфри: тот был молчалив, мужествен и властен. Метли был ласков, он обвивался вокруг Олив – как змея, подумала она, как саламандра – и бормотал ей на ухо: «Так лучше? А где лучше – тут? Или вот тут? Как хорошо, правда?»
Ее телу по большей части нравилось то, что он делал, а если не нравилось, он быстро менял галс, исправляя ошибку. Олив посмотрела на его «орудие»: оно было тонким и коричневатым, а не толстым, как у Хамфри. Не думай о Хамфри.
– Не думай, перестань думать, – сказал ей на ухо Метли, – надо перестать думать, милая моя, дорогая.
И она перестала думать и достигла пульсирующего оргазма, какого в жизни не испытывала, и испустила мощный крик – наверняка слышно было всей гостинице.
– Я же тебе говорил, я знал, что мы друг другу подойдем, – сказал голос ей в ухо, и она поняла, что от такого теперь трудно будет отказаться, и все же ей было… не то что стыдно… неприятно, что это оказалось настолько по-другому и что она так живо откликалась.
* * *Когда Олив было не по себе, она писала. Она писала, как другие спят – чтобы потом найти в сновидении истинный смысл или отбросить ненужные образы. Она писала, чтобы снова оказаться в другом, лучшем мире. Вернувшись в «Жабью просеку» после «Зимней сказки» и «Приюта контрабандистов», она породила длинный эпизод, в котором отряд искателей наткнулся на высокий спеленутый предмет, не то колонну, не то пленника – что-то вроде скульптуры из гипса, обернутое в мокрые бинты, которые, застывая, каменели. Серовато-белый кокон выше человеческого роста. Юный принц двинулся вперед без страха, как всегда. Гаторн остерег его:
– Не трогай. Это сплетенные Ею сети, они всегда ядовиты.
Принц подошел по темному коридору, светя себе фонариком, и увидел, что во впалых тканевых глазницах сверкают живые глаза, – они говорили, хотя рот был замотан бинтами и вместо губ был виден лишь небольшой бугорок.
– Оно живое, мы должны его спасти, – сказал храбрый мальчик доброму гоблину.
Тут Олив ненадолго завела в тупик ее собственная изобретательность. Как освободить пленницу, если бинты ядовиты? Но принц пустил в ход свой волшебный меч, который шипел, соприкасаясь с влажным бинтом, и откалывал затвердевшие куски. Теперь Олив видела эту сцену. Извивающиеся куски повязок валялись кругом, и затвердевшие тоже, похожие на глину, или фарфор, или на сломанные ногти. Когда все бинты были сняты, пленница выступила из своего савана – седовласая женщина со склоненной головой и согбенными плечами. На миг показалось, что она слишком стара, истощена и не переживет освобождения. Она, шатаясь, двинулась вперед, и юный герой подхватил ее в объятия, не давая упасть. И вдруг старушка стала юной феей, снежно-белые волосы исполнились неземной жизни и света, в глазах засиял магический огонь. И тут же снова постарела, губы побелели, кожа обтянула кости.
Спасенная сказала принцу, что она могущественная фея и спустилась под холм, чтобы помочь тем, у кого украли тень. Темная королева-ткачиха поймала ее в ловушку и спеленала смертельно ядовитой сетью, сплетенной из теней, из которых темные ткачи высосали все остатки жизни. Если бы им хватило материала, чтобы закрыть ей и глаза, она стала бы такой же, как они. Но в ее взгляде еще оставалось немного волшебной силы.
* * *Олив остановилась, недовольная. Это хороший образ, но в сказке о подземном царстве ему не место. Присутствие этой, очевидно взрослой, женщины не усиливало, а ослабляло конфликт между светлой королевой страны эльфов и темной королевой бездны. У Олив как-то не получалось ввести в сюжет другие женские персонажи помимо этих двух. Они не оживут, читатели-мальчики сочтут их слюнявыми, они размывают нить повествования.
Тем не менее образ положительного существа, закутанного в смертельную ткань из теней, был слишком хорош, чтобы от него отказаться.
Олив переписала эпизод, убрав рост, возраст, красоту феи и заменив ее духом воздуха: тонконогим, тонкоруким, с волосами, как бледно-золотой солнечный свет, и не женского пола. Ее завораживали Парацельсовы земные духи: сильфиды, гномы, ундины и саламандры. Но, начав сознательно творить подземную страну, Олив старательно убирала все слова и образы, слишком близкие к классической мифологии, – они вызывали готовые ассоциации, освобождая читателя от необходимости думать. Олив хотела, чтобы читатели – в первую очередь Том, но она смутно представляла и других – видели ее духа воздуха таким, каким она сама его изобрела. Она дала ему торчащие колючками волосы, словно раздуваемые ветром, прозрачные, как лед, но теплые от солнечного света. Она дала ему вены и жилы, в которых клубилась синева неба и золото солнца. Кости у духа были тоже прозрачные. Глаза? Непостижимые, золотисто-желтые, с черным пятнышком посредине. Олив думала об этом существе: если она назовет его сильфом, избавившись от окончания «ида», отвлечет ли это читателя от классической мифологии? «Сильф» звучит похоже на «эльфа» – смягченное английское слово.
Сильф не шатался от старости и не падал в объятия мальчика, подобно зрелой женщине. Он танцевал вокруг, словно болотный огонек, празднуя свободу, и предупреждал отряд о неожиданных опасностях, рыскающих в ближних коридорах. Он сказал, что на месте Тома немедленно повернул бы назад, так как сам прекрасно жил бы и без тени, в свете вечного полдня. Он сказал:
– Может быть, твоя тень не захочет выходить на свет. Может быть, она захочет остаться с гномами и саламандрами.
– Но моя тень – моя! – воскликнул Том.
– Может быть, она больше так не думает, – сказал сильф, и Олив мучительно задумалась, что следует из этой реплики, которую она вписала, повинуясь внезапному импульсу из ниоткуда.
20
На рубеже веков дети вот-вот должны были стать взрослыми (а некоторые уже стали), и старшие смотрели на них, на свежую кожу, молодую грацию и неловкость, со смесью нежности, страха и желания. Молодые же хотели освободиться от власти старших и в то же время с готовностью обижались на любой намек, что старшие хотели бы освободиться от них.
Семья Проспера Кейна, судя по всему, не испытывала сложностей и даже питала надежды. Джулиан в декабре 1899 года отправился в Кембридж, сдал вступительный экзамен в Кингз-колледж и заработал стипендию. Он должен был пойти учиться осенью 1900 года. Флоренция ходила на курсы в Кембридже, где готовили к сдаче экзаменов на право поступления в университет, и поговаривала об изучении языков в Ньюнэм-колледже. В свежепоименованном Музее Виктории и Альберта царили хаос строительства и хаос реорганизации; кипели споры между теми, кто видел Музей как «собрание древностей», и теми, кто видел его основной задачей образование, обучение художников-прикладников и учителей. Королевский колледж искусств, возникший из реорганизованной Национальной школы обучения искусствам, где в 1898–1899 годах был директором Уолтер Крейн, теперь управлялся Советом по искусству: его составляли четверо специалистов из Гильдии работников искусства, полные идеалистического духа Движения искусств и ремесел. Первым преподавателем дизайна в колледже стал архитектор У. Р. Летаби, и сразу началось энергичное преобразование курсов для «преподавателей искусства обоих полов», «дизайнеров» и «работников искусства». Поскольку среди преподавателей не было женщин, а среди студентов было много юных дам, в колледже учредили должность заведующей по делам студенток.
Проспер Кейн наблюдал за Имогеной Фладд. Он говорил себе, что не может спокойно смотреть, как она слоняется по Пэрчейз-хаузу: нечто среднее между оборванной девчонкой-гусятницей и пленной принцессой. В 1900 году ей был двадцать один год или около того, и у нее не было ни мужа, ни профессии, ни нормальной домашней жизни. Что у нее есть, думал Кейн, это робкий, но несомненный художественный талант. Кейн был уверен, что ей следует убраться подальше от ауры Фладда и миазмов Серафитиной инертности и чему-нибудь научиться. Он поговорил с Уолтером Крейном, который всегда восхищался творениями Фладда и прекрасно знал о его тяжелом характере. Желающие стать студентами должны были выдержать ряд нелегких испытаний: по архитектуре (двенадцать часов на рисование небольшого архитектурного объекта); по рисованию модели (за шесть часов создать эскиз – например, углем – рта микеланджеловского Давида); просто по рисованию (изобразить голову, руку и ногу); по орнаменту и дизайну (нарисовать по памяти лист растения, например дуба, ясеня, липы); каллиграфически написать вручную заданное предложение. Проспер Кейн не знал, хватит ли у Имогены сил – и мужества – на участие в этих открытых конкурсах. Он уговорил Крейна позволить ей посещать лекции в качестве вольнослушательницы. А там они посмотрят, как она будет развиваться. В качестве легенды, для прикрытия, можно будет сказать, что она «гостья» музейного хранителя драгоценных металлов.