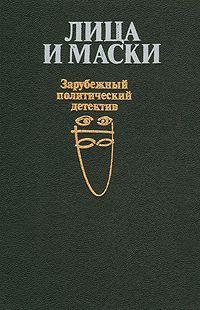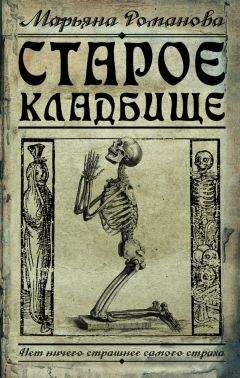Эндрю Миллер - Чистота
Лицо инженера расползается в зевоте. Нижней частью ладоней он трет глаза, ощущает постоянный, монотонный приказ своего тела, сердцебиение, отраженное в пульсе – это, это, это, еще это… Открыв глаза, понимает, что смотрит уже не на церковь, а на картинку на стене, гравюру с изображением венецианского моста Риальто, на его единственный высокий пролет – такой, чтобы пропускать корабли, независимо от уровня прилива, на его двадцать четыре узкие лавки со свинцовыми крышами. Картинка до сих пор висит на гвозде, в точности как в тот вечер, когда он впервые переступил порог этого дома, но прошло уже несколько месяцев, с тех пор как он ее разглядывал, с тех пор как задумывался о своих прежних честолюбивых замыслах, символом которых когда-то была эта гравюра. Мосты и дороги? Да, мосты и дороги, пересекающие Францию, соединяющие берега рек, связующие города и деревни, словно жемчужины на нитке, и потом надежный, изумительно изогнутый мост, словно дар, положенный к стенам какого-нибудь сияющего города. И сам Жан-Батист на коне, а за ним – бригады рабочих. Люди, лошади, телеги, камни. Тучи пыли. Теперь он сможет его построить. Это вполне реально. Он не сомневается в себе, ему больше не надо, нервно напрягая волю, собирать себя по частям, чтобы вдруг в один прекрасный день не исчезнуть. Но не изменились ли его честолюбивые устремления? Не стали ли они, к примеру, менее честолюбивы? А если да, то что же пришло им на смену? Похоже, ничего героического. Ничего, чем можно похвастаться. Желание начать все сначала, только на этот раз более честно. Проверять каждую мысль в свете обретенного опыта. Стоять как можно тверже в фантастической грязи мира, жить среди нерешительности, хаоса, красоты. По возможности жить смело. Смелость ему понадобится, в этом нет сомнения. Мужество, чтобы действовать. И мужество, чтобы отказаться.
Кот безмятежно наблюдает за ним с кровати из глубины собственной тайной сути. Инженер усмехается.
– Думаешь, приятель, им удастся снова затащить меня на ферму?
Потом его взгляд опять обращается к окну, к церкви, где через разбитую крышу валят клубы черного дыма. Дым поднимается, затем опускается, окутывает леса, уходит вниз до кладбищенской стены, опять поднимается, кружит в чистом воздухе, кружит, кружит, кружит и наконец устремляется на восток. Жан-Батист зовет Элоизу. Она бежит к нему через коридор.
– Они улетают! – кричит он. – Эти как их… летучие… черт! Летучие твари!
– Кто? Летучие мыши?
– Да-да. Сотни! Тысячи!
Она смотрит, куда он указывает, прищуривается, но над церковью не видно уже ничего, кроме ночной тьмы.
Глава 2
Середина августа. Рассвет в двадцать минут седьмого. Дни заметно короче. Он раздвигает ставни, рассматривает покрытые тенью дома напротив, задумывается, не глядит ли оттуда кто на него, но этого не определить. Сзади в постели шевелится Элоиза. Он спрашивает, нужна ли ей свеча, зажечь ли. Не нужна, отвечает она. Ей и так хорошо видно. Хотелось бы воды. Он находит стакан, вкладывает ей в руку, слушает, как она пьет.
На нем только та рубашка, в которой он спал. Он натягивает кюлоты, заправляет рубашку, берет чулки и садится на край кровати, чтобы их надеть. Элоиза снимает пеньюар с ширмы, куда он был повешен на ночь.
– Небо ясное, – говорит она.
– Да.
– Несколько недель не было дождя.
– Да.
– Хорошо бы прошла гроза, – говорит она, – и умыла бы улицы.
Их разговор чуть громче шепота. Он застегивает кюлоты, она удаляется за ширму. Над верхушками труб на той стороне улицы появляется тонкая золотистая полоска рассвета. Розово-золотистая, оранжево-золотистая.
– Что, если мы уедем? – спрашивает он.
– Уедем?
– Недели на две.
– А ты сможешь?
– Я бы попросил Саньяка взять все в свои руки. Ведь сейчас в основном идет его работа.
– А куда мы поедем?
– В Нормандию. В Белем. Там прохладнее. Гораздо прохладнее. И не пора ли тебе познакомиться с моей матерью?
– С твоей матерью?
– Да.
– Но вдруг здесь что-нибудь случится? – спрашивает Элоиза, выходя из-за ширмы и протирая лицо апельсиновой водой. – Что, если твои рабочие не станут слушаться Саньяка?
– Почему это они не станут его слушаться?
– Может, он им не нравится.
– Он и не должен им нравиться. Не уверен, что я сам-то им нравлюсь. К тому же мы уедем всего на две недели. Или меньше, если тебе угодно. Разве ты не хочешь познакомиться с моей матерью?
– Хочу, – говорит Элоиза. – Только немного боюсь, вот и все. Мы с тобой живем… не как положено.
Он подходит к ней ближе. Как приятно смотреть по утрам на ее лицо!
– Моя мать добрая, – говорит он, беря ее холодные от воды пальцы.
– Добрая?
– Да.
Она начинает смеяться. Он тоже – тихим свистящим смехом, который прерывается невероятно громким чиханием, доносящимся из комнаты внизу. За первым приступом следует быстрая череда других.
– Месье Моннар, – говорит Элоиза, – заразился простудой от Мари.
– Я все думал, – говорит Жан-Батист, – Моннар… он и Мари… это возможно?
– В прошлую субботу, – рассказывает Элоиза, – я слышала очень подозрительные звуки, доносившиеся с чердака.
– Звуки?
– Как будто кто-то сек розгами ребенка.
– А теперь они вместе простудились, – добавляет Жан-Батист.
– Бедная мадам, – вздыхает Элоиза.
– Ей надо уехать в Дофине, – говорит Жан-Батист. – Не понимаю, почему она не уезжает.
– Или та должна вернуться сюда.
– Кто? Зигетта? Ты могла бы спать спокойно, зная, что в доме убийца?
– Она не убийца, Жан. Хотя нет, я не могла бы жить с ней в одном доме. Нам нужно найти другое жилье. К примеру, Лиза говорит, что есть хорошая квартира рядом с нею на Рю-дез-Экуфф. Ее снимают нотариус с женой, но к сентябрю они должны съехать.
– Говоришь, к примеру?
– Зато там нам бы никто не мешал, – продолжает она.
– Но соседом у нас был бы Арман.
– Это можно пережить, – говорит она. – Ты подумаешь, Жан?
– Подумаю.
– Обещаешь?
– Обещаю.
Они расходятся. Продолжают одеваться. Он застегивает камзол, стоя у окна, и смотрит вниз на качающийся полотняный навес фургона, уже виденный им однажды: «Месье Гюло и сыновья. Перевозки для дворянского сословия».
Что подтолкнуло его к разговору об отъезде? Свет над колпаками дымовых труб? Неужели? Получается, в доброй половине случаев человек вообще не знает, о чем думает, чего хочет. Однако идея покинуть Париж не столь уж несбыточная. Саньяк, скорее всего, согласится занять его место. Конечно, за разумную цену. А что до шахтеров, то с чего им возражать, если они будут получать причитающееся им жалованье? Он пытается нарисовать себе картину: он и Элоиза беззаботно гуляют по зеленой траве, по лесам, полулежат, откинувшись, в стогах сена, выслеживают форель в ручье. Получают благословение матери…
Но как бы ни хотелось, ему не так-то легко себе это представить. Гораздо проще увидеть, как он постоянно терзает себя мыслями о кладбище, а потом придумывает причину, почему необходимо срочно вернуться в Париж.
– Сегодня я куплю бычьи хвосты, – говорит Элоиза. – Мясник Самсон обещал их для меня оставить. Рабочим понравится. Я их приготовлю с луком и чесноком, с помидорами и тимьяном, добавлю побольше красного вина и, может быть, свиные ножки. Свиные ножки очень хороши для тушения. От них соус делается гораздо насыщеннее. Тебе мама никогда не готовила свиные ножки, Жан? В Нормандии едят такое блюдо? Жан… что ты делаешь?
Он перешел от окна к туалетному столику и сидит, уставившись, в голубое сияние зеркала.
– У тебя начинается мигрень? – спрашивает она, подходя и ласково обхватывая руками его голову.
– Нет, – отвечает он, – вовсе нет.
– Мне не надо было вспоминать про Зигетту.
– Она тут ни при чем.
– Но ты хмуришься.
– Я только что заметил, – говорит он, – что начинаю походить на старого Дюдо.
– Дюдо? Кто такой этот Дюдо?
Встретившись с ней в зеркале глазами, Жан-Батист усмехается.
– Один наш родственник, крестьянин, – говорит он. – Чистейшей воды крестьянин.
Воздух уже раскалился от солнца. Жара изливается на Рю-о-Фэр, изливается прямо ему в череп. В самом конце улицы он видит темные очертания прачек у итальянского фонтана, а блестящие капли воды вокруг них напоминают ему рой пчел. Он открывает дверь кладбища – она не заперта и не запиралась с той ночи, когда застрелился Лекёр. Не помогла ему запертая дверь. И уж точно она не помогла Жанне. А что касается воришек, всегда готовых стащить немного дров, то эти темные личности вообще не склонны пользоваться дверями.
На церковной крыше уже заняли свои места каменщики и чернорабочие. Хотя судя по звукам, доносящимся сверху, они скорее добродушно подшучивают друг над другом, чем по-настоящему работают. Жан-Батист оглядывает леса, парапеты, но Саньяка не видит. Наверное, он еще не пришел, и подмастерья пользуются неожиданной свободой.