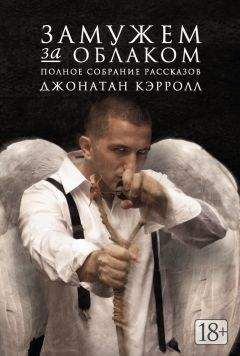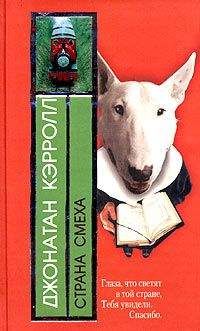Энрике Вила-Матас - Дублинеска
В тот момент Рибе показалось, что он полностью осознал – квинтэссенцией этого странного сна, увиденного им в больнице тому два года, было не что иное, как возвращение в сознание и радость от того, что он жив.
Селия не сказала, что на следующий день они могут поехать в Корк, но все равно это было невозможное и единственное в своем роде мгновение, мгновение в центре мира. Потому что он внезапно ощутил, что их связь сильнее всего, сильнее жизни и смерти. И это ощущение было таким серьезным и неподдельным, таким сокровенным и мощным, что сравнить его можно было только с возможностью перерождения.
Селия же не разделяла его переживаний, она была возмущена тем, что он снова жальчайшим образом запил. И все же в сцене со смертельными объятиями ощущались и ее чувства, и было видно, как много для нее значит это неожиданно насыщенное мгновение в центре мира, хотя и не так, как для него.
– Когда мертвецы плачут – это знак того, что они на пути к выздоровлению и к осознанию того, что они живы, – сказал он.
– Плачут только те, которые допились до смерти, – возразила Селия, и, вероятно, ее слова были ближе к истине.
Он отреагировал не сразу.
– Какая жалость, – сказал он наконец, – что мы умираем и стареем и что все хорошее уходит от нас так быстро.
– Что мы стареем и умираем, – поправила она.
Так шаг за шагом развеивалось волшество момента.
Но перед тем оно было. Было мгновение в центре мира. И, напротив, никакого отношения к центру мира не имело последовавшее за ним мгновение – когда Селия бросила на него пугающий взгляд, и они оба осознали, в каком нелепом положении вдруг оказались. Теперь она не сводила с него глаз, и в этих глазах стояла ненависть. Но превыше ненависти было презрение.
И что же сделал он? Сумел вернуть ей презрительный взгляд? Сумел сказать ей, что только дуры становятся буддистками? Нет, не сумел, не посмел. Он был еще под впечатлением, в нем еще жило эхо только что отзвучавших чувств. Он еще слышал глубокий рокот моря и слова, говорившие ему, что лучше «жить в презренье, чем на вершине». Потому что, когда человеку хуже худшего, когда он стал последним отбросом судьбы, он может надеяться и жить без страха. Теперь он понимал, зачем ему нужно было прижиматься к полу, чтобы ощущать, что жизнь продожается. Не имело никакого значения, что он состарился, что он распадается и что все, с чем он был связан, доживает последние дни, потому что эта трагедия сослужила ему отличную службу – он понял, почему внутри знаменитой пустоты, которая и есть человек, и в рамках его бессмысленного явления в этот мир и исчезновения из него существуют особые мгновения, и их нужно уметь выделять из ряда всех прочих и уметь ловить. Сейчас он пережил одно такое мгновение. Он уже прожил его однажды в неповторимо чувственном сне, который видел два года назад в больнице. Это и был один из тех драгоценных моментов, за которые он боролся, сам того не зная, последние несколько месяцев.
Обнимая Селию и нимало не тяготясь больше своим неудобным положением на земле, он принялся прямо там воображать, будто снова бродит в одиночестве, как не раз уже бывало, по улицам этого мира и внезапно оказывается на молу, исхлестанном бурей, – и тут все встало на свои места: годы сомнений, поисков, вопросов и поражений внезапно обрели смысл, и картина его будущего предстала перед ним ясней ясного – конечно же, ему не надо ничего больше делать, он просто должен вернуться к своему креслу-качалке и начать там свое скромное существование в направлении худшего исхода.
«Плачевна перемена для счастливцев, – припомнил он слова Эдгара, сына графа Глостера в «Короле Лире», – несчастным поворот – на радость. Здравствуй, бесплотный воздух, что меня объемлешь. Когда ты бедняка додул донельзя, он не должник уж твой».
Ему уже хуже некуда, но что-то, видимо, разладилось, потому что радость к нему так и не вернулась. Он дорого заплатил за эпифанию на последнем молу, и теперь все идет не так, как он предполагал. Кажется, он, сам того не заметив, попал на дно дна, провалился на уровень ниже ожидаемого. Похмелье не желает отступать. И маленькая картина Хоппера не меняется, хоть ты в нее стреляй.
Он с ужасом видит первые последствия своей ошибки. Для начала он ясно понял, что и бог, и гений, которого он столько искал, – мертвы. Грубо говоря, он – без его на то согласия – оказался вдруг в мерзкой клоаке внутри отвратительного мира.
Они ушли, как писал Генри Воэн. «В мир света навсегда они ушли», – вот как по-настоящему звучит первая строчка этого английского стихотворения XVII века. Но из клоаки, где он пытается храбриться на пути к худшему исходу, мир света и не разглядеть. И это, сказать по правде, один из самых больших недостатков свинарника, в который превратилась квартира. Так что от стихов Генри Воэна осталось жалкое и липкое «Они ушли». И точка.
К нему возвращается тоска по утерянному или так и не встреченному гению. Были времена, когда он, посвятив себя поискам, считал очевидным, что явным признаком присутствия этого гения в тексте или в жизни будет его способность выбирать темы, не имеющие никакого отношения к нему самому и его обстоятельствам. До недавнего времени он верил в гения, занятого им, ушедшим от дел издателем, его повседневной жизнью, очень далекой от его собственного мира. До недавного времени его не покидало ощущение, что книге необходим гений, что он, высший дух, глубже и ближе осознающий происходящее, чем собственно персонажи, должен предлагать свои сюжеты вниманию будущих читателей, должен быть чужд описываемым страстям, им должно двигать то радостное возбуждение, которое рождается из его собственной энергии в момент описания того, что перед тем он со вниманием наблюдал.
Это может быть простым совпадением, а может и не быть, но с того момента, как он поверил в смерть Малахии Мура, он не может понять, на месте ли тот, кто, как ему казалось, шпионил за ним и изучал его с маниакальным, а может, и профессиональным интересом. Он тоскует по гению. Или по тому, кого нет. Он тоскует даже по начинающему автору. Но, как почти что сказал Генри Воэн, все умерли. Все угасли, может быть, надолго, может, даже навсегда. Он вспоминает юношей, дразнивших Кавальканти за то, что он никогда не присоединялся к ним в их разгулах. «Ты отказываешься быть в нашем обществе, – говорили они, – но скажи, когда ты откроешь, что Бога нет, что же будет тогда?»
Дождь льет, как будто стремится наконец полностью затопить всю землю, включая этот дом на севере Дублина, этот трагический дом с креслом-качалкой, большим окном и картиной с лестницей, дом на берегу Ирландского моря, задуманный, чтобы двигаться к худшему исходу, дом, если позволите – прошу прощения, что встреваю, но мне нужно самому слегка дистанцироваться от происходящего, к тому же, если я не скажу этого, я лопну со смеху, – дом, доверху набитый Беккетом.
Что же ему делать теперь, когда он убедился в том, что не существует ни Бога, ни гениального автора, и что, с другой стороны, никто на него уже не смотрит, и осталось только страдание в его беккетовом мире у самого пола? Вслушиваясь в дождь, он снова ощущает, что не просто нечто утекло из комнаты, но кто-то умер – в буквальном смысле слова. Ни тени, ни следа, ни призрака автора, ни начинающего литератора, ни бога, ни духа Нью-Йорка, ни так и не найденного гения. Это только его догадки, но ему кажется очевидным, что с тех пор, как он себя чувствует хуже некуда, он еопускается еще ниже. Уже никто за ним не шпионит, никто не наблюдает, никто – затаившийся или просто невидимый – не прячется за глубоким бесконечным синим воздухом. Никого. Он представляет себе, как кладет в карман штанов плоские часы и начинает спускаться по ступенькам с алтарного возвышения. Но очень скоро спрашивает себя, зачем стараться и воображать, если уже никто, абсолютно никто его не видит. Все умерли. И все равно он будет воображать. Горе, одиночество, жалкая нищета у самого пола. Если глядеть из худшей части хуже худшего, мир выглядит мельчайшим кусочком дерьма в самой гнилостной, нечистой и несвежей вселенной. Тоска по ароматным ликам, по яблочным личикам. Раз все так плохо, не лучше ли было, если бы Малахия Мур не умирал, а по-прежнему находился бы тут – пусть в качестве тени, если ему так хочется, – но чтобы эта тень могла хоть немножечко оживить его своим присутствием.
О Малахии Муре он знает, что тот был легок на ногу и что многие звали его Годо. Что его встречали по всему Дублину в самых невозможных местах. Что он, словно Дракула, умел истечь туманом. Больше не знает почти ничего, но уверен, что без труда сумеет представить его себе. Малахия Мур был плохо сложен, это из-за его костяка. Его глаза производили на всех сильное впечатление. Глаза у него были близорукие, но выразительные, их взгляд был пронзителен и остр, и стекла круглых очков не скрывали светящегося в них глубокого ума. Руки были холодные и вялые, и от него нельзя было дождаться энергического пожатия. Когда он быстро шел по улицам, его ноги были похожи на несгибающиеся ножки циркуля. Он был совершенно гениальным автором, хотя в жизни не написал ни единой строчки. Повезло бы тому, кто сумел бы его открыть. Он казался выше, чем был на самом деле. Если нам удавалось увидеть его вблизи – до того, как он, следуя своей, уже известной нам, привычке, растворился в тумане, – сразу становилось понятно, что он вовсе не такой высокий, хотя и несколько выше среднего. Ощущение высокого роста возникало из-за его худобы и еще из-за его макинтоша, застегнутого снизу доверху, и его узких брюк. Что-то в его облике, главным образом посадке головы, напоминало горного орла – беспокойного, настороженного. Стреляную птицу.