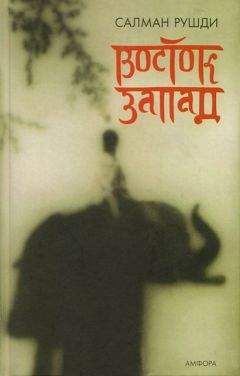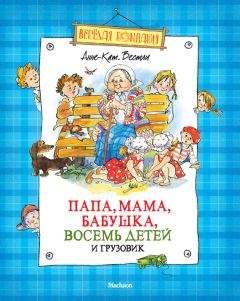Салман Рушди - Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей
– Это я, – вскричала принцесса, – столетиями трудилась, создавая машину без цели – или же с целью столь отдаленной, как, например, вечная слава, что попытка достичь ее – самообман. Эта машина – моя жизнь, а цель, которой машине вовек не достичь, эта великая слава – любовь моего отца. Это я, не кузнец, не учительница, не философ, я не сумела понять разницу между болезнью и здоровьем, между чумой и исцелением. В своем несчастье я убедила себя, что отцовское презрение естественно, это нормальное, здоровое состояние, что моя женская природа сама по себе – болезнь. Но вот мы добрались до истины: он недужен, а я здорова. Какой же яд бродит в его теле? Может быть, он сам отравляет себя?
Она уже всхлипывала, и садовник Джеронимо обнял ее, предоставив своей нечеловеческой любовнице то малое человеческое утешение, какое мог, – он и сам пребывал в глубочайшей экзистенциальной растерянности.
Что это значит – что он вознесся в воздух, а потом плавно опустился, вот так, не по собственной воле; что земля отвергла его, а потом столь же таинственно снова приняла; что он оказался здесь, в мире, который не обладал в его глазах смыслом, поскольку человеческие существа строят смысл из знакомого, из доступных им ошметков знания, словно собирают пазл со множеством недостающих деталей. Смысл – те рамки, что человеческие существа накладывают на хаос бытия, придавая ему форму, а он перенесся в мир, который ни одна рамка не смогла бы вместить, и цепляется здесь за сверхъестественное и чуждое создание, недолгое время притворявшееся его утраченной супругой, держится за нее с тем же отчаянием, с каким она сама сейчас прижалась к нему, потому что он внешне схож с давно умершим философом, и оба они надеются: чужак, заместитель сумеет, обнявши, внушить им веру в доброту мира – того ли мира, этого ли, просто мира, где два живых существа могут обняться и произнести магическое заклинание:
– Я люблю тебя, – сказал мистер Джеронимо.
– И я тебя люблю, – ответила Принцесса Молний.
Под горестной памятью об отце, которому невозможно было угодить, о царе с короной Симурга, столь гордого своей властью, что и дочери велел именовать его «Ваше Величество», о царе, не умевшем любить, лежали иные воспоминания – о ее первой любви или, по крайней мере, о юношах, которые влюблялись в нее, когда не были еще темными джиннами, заклятыми врагами ее отца. В ту пору Забардаст с очаровательной сосредоточенностью юного волшебника извлекал самых немыслимых кроликов, химерокроликов и кроликов-грифонов, каких вовсе не водилось в природе, из нелепых клоунских колпаков, их у него имелось в избытке. Забардаст, с его неутомимой болтовней, шуточками, беспечной улыбкой, больше привлекал ее. Зумурруд, полная Забардасту противоположность – мускулистый, не бойкий на язык, запинающийся, вечно злющий оттого, что не мог объясниться, – был красивее, тут не поспоришь: роскошный почти немой гигант, сумрачная невинность, если кому такое нравится.
Оба, само собой, с ума по ней сходили, что в мире джиннов не оборачивается такой проблемой, как на Земле (джиннам смешна даже мысль о моногамии), и все же они соревновались за ее благорасположение: Зумурруд одаривал ее гигантскими драгоценными камнями из сокровищниц великанов (он принадлежал к богатейшей среди джиннов династии строителей дворцов и акведуков, террасных садов и павильонов в садах, без которых Перистан не был бы Перистаном), а Забардаст, специалист по магии, артист тайных искусств, от природы был склонен к клоунаде и умел ее смешить. Толком она не помнила, вероятно, переспала с обоими, но если и так, особого впечатления на нее это не произвело, и принцесса, отвернувшись от не удовлетворявших ее женихов Волшебной страны, обратилась к трагическим мужчинам Земли. Когда она бросила Зумурруда и Забардаста, разорвав треугольник молодой любви, предоставив обоим джиннам строить их жизни, как сумеют, они изменились. Забардаст постепенно становился холоднее, темнел. Наверное, думала она, он был сильнее влюблен и тяжелее переносил утрату. Что-то мстительное появилось вдруг, к ее изумлению, в его повадке, какая-то обида и горечь. Зумурруд же от любви обратился к настоящим мужским делам: чем длиннее отрастала его борода, тем менее привлекали женщины и драгоценности. Теперь он был одержим жаждой власти. Он сделался вождем, а Забардаст его последователем, хотя Забардаст был и оставался более глубоким мыслителем – впрочем, быть более мелким, чем Зумурруд, едва ли возможно. И все они по-прежнему считались друзьями, пока этот союз не распался в пору Войны миров.
Зумурруд, Забардаст, Аасмаан Пери – Принцесса Молний. Долго ли длился их флирт? Джинны не умеют толком измерять время. В мире джиннов время не столько проходит, сколько пребывает. Это люди – рабы часов, время их горестно кратко. Тени облака, мчащиеся прочь, унесенные ветром. Вот почему Забардаст и Зумурруд поначалу поверить не могли, что Дунья взяла себе это имя, а вместе с именем и любовника-человека, к тому же немолодого, философа Ибн Рушда. В последний раз они пришли к ней, оба вместе, пытались образумить. «Если тебя привлекает интеллект, – сказал Забардаст, – могу тебе напомнить, что во всем Перистане ты не сыщешь лучшего знатока магических искусств, чем я». «Разве магия – раздел этики? – отвечала она. – Разве колдовские трюки подвластны разуму?» – «Добро и зло и все, что относится к разуму – человеческие паразиты, точно блохи на собаке, – возразил Забардаст. – Джинны ведут себя, как вздумается, не заморачиваясь банальностями зла и добра. А Вселенная, как всякому джинну известно, иррациональна». Она повернулась к нему спиной, и горечь, давно уже копившаяся в джинне, переполнила его, словно поток. «Твой мужчина, философ твой, твой премудрый глупец, – забранился Зумурруд. – Ты хоть понимаешь, что скоро он умрет, а я буду жить если не вечно, то еще очень большое время». «Ты говоришь так, словно это великое благо, – отвечала она. – А мне год жизни Ибн Рушда дороже твоей вечности».
С тех пор они стали ее врагами, и, поскольку она унизила их, предпочтя человека, подобного мухе – срок жизни его один день, а потом он умирает навеки, – джинны пуще прежнего возненавидели человечество.
А пока она припоминала свою юность, мистер Джеронимо изнутри повести о ее полудетском флирте проник в память о своей единственной истинной любви. Элла Эльфенбайн, его красотка-болтунья, добрая ко всякому пришельцу, гордящаяся своей внешностью, обожающая своего отца Бенто – он значил для нее больше, чем муж, казалось порой мужу. По пять раз в час день напролет она звонила Бенто до самой его смерти и каждый раз, здороваясь и прощаясь, произносила: «Я тебя люблю». Только после его смерти она сказала Джеронимо: «Ты все, что у меня есть», прежде – никогда. Нелепо ревновать дочь к отцу, яркому, лихому, порой нарушающему законы, с улыбкой Джокера, того развеселого злодея, что постоянно находит способы перехитрить Бэтмена. И все же порой я ничего не мог с собой поделать, признался себе мистер Джеронимо, он и сейчас ничего не мог с этим поделать, она даже сумела умереть точно так же, как Бенто, отыскала себе молнию в точности как он.
А что я делаю здесь и сейчас? – спросил он себя. – Обнимаю сверхъестественное существо, волшебную царицу молний, властительницу и воплощение сил, которые сгубили мою любимую, и бормочу ей в ухо слова любви, словно я готов полюбить то, что убило мою жену, шептать ей, здороваясь и прощаясь: «Я тебя люблю» – царице сил, которые уничтожили мою Элли. Так что же это говорит обо мне, кто таков я, если так? Уши у нее, кстати, без мочек, как и у меня. Древнее существо из страны фантазий, которая говорит, что она моя праматерь, соберись, сказал он себе, ты погрузился в иллюзии, ногами ты вернулся на землю, но голова ушла далеко, далеко в небеса. Но сколько он ни пытался мысленно удержать ее, Элла растворялась, ускользала в небытие, а теплое тело в его руках сделалось плотным и реальным, хотя он и знал, что оно состоит из дыма.
Ему нехорошо, сообразил он. Сердце громыхало в груди, голова кружилась от разреженного воздуха горы Каф, нарастала высотная мигрень. Затем мысли обратились к его утраченному ремеслу, которое казалось уже целиком его утраченным «я», к вилле Ла-Инкоэренца, столь прекрасной, пока не обрушилась буря, он вспомнил свои занятия – копать, полоть, сажать, подстригать изгороди, вспомнил битву с сурками, поедавшими рододендроны, торжество над древесными паразитами, строительство лабиринта, камень на камень, крупный пот на лбу, счастливая усталость тянет мышцы, дни славной работы в солнце, и в дождь, и в мороз, зимой и летом, один жаркий день за другим, снегопад за снегопадом, тысяча один акр, лиман, холм, где его жена лежала под колышущейся травой. Ему хотелось вернуться назад, в пору невинности, до того, как удары молний и небывалости разрушили мир. Ностальгия – вот как назывался его недуг.