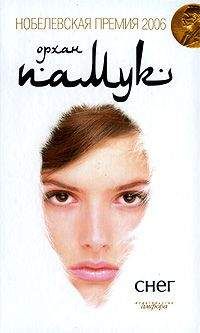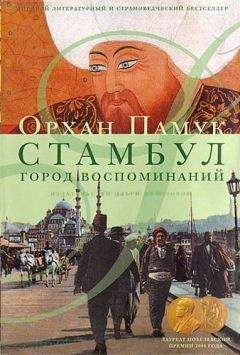Орхан Памук - Снег
Он был на середине спуска, когда с противоположной стороны улицы послышался шум, и Ка замедлил шаг. Два человека пинали дверь Телефонного управления.
На снегу показался свет фар автомобиля, а затем Ка услышал приятный шорох гусениц танка. Из черной гражданской машины, подъехавшей к Телефонному управлению, вышел какой-то солидный человек, которого Ка видел недавно в театре, когда собирался уходить, и вместе с ним вооруженный человек в шерстяном берете.
Все они остановились перед дверью. Начался какой-то спор. По их голосам и тому, что было видно в свете уличного фонаря, Ка понял, что перед дверью стоят З. Демиркол и его спутники.
– Как это у тебя нет ключа! – сказал один. – Разве не ты главный начальник по телефонам? Разве тебя сюда привезли не для того, чтобы ты отрезал телефоны? Как ты мог забыть ключи?
– Городскую телефонную линию можно перерезать не здесь, а на новой станции, которая находится на Вокзальном проспекте, – сказал начальник.
– Это восстание, и мы хотим войти сюда, – сказал З. Демиркол. – А если захотим, пойдем и в другие места. Понятно? Где ключ?
– Сынок, этот снег через два дня прекратится, дороги вновь откроются, и государство призовет всех нас к ответу.
– То государство, которого ты боишься, – это мы и есть, – ответил З. Демиркол, повысив голос. – Откроешь ты или нет?
– Не открою, пока не получу письменного распоряжения!
– Сейчас посмотрим, – сказал З. Демиркол. Он вытащил револьвер и два раза выстрелил в воздух. – Ну-ка, поставьте его к стене, а если будет упорствовать, расстреляем.
Никто не поверил его словам, но все же вооруженные люди З. Демиркола приставили Реджаи-бея к стене Телефонного управления. Они слегка подтолкнули его вправо от окна, оказавшегося у него за спиной, чтобы не разбить стекло при расстреле. Снег в том углу был мягким, и начальник упал. Они извинились и, взяв за руки, подняли его, потом развязали ему галстук и связали руки сзади. Попутно они разговаривали между собой о том, что до утра уберут всех предателей родины в Карсе.
По приказу З. Демиркола они зарядили ружья и выстроились напротив Реджаи-бея, как палачи. В это время издалека послышались звуки выстрелов. (Это был предупредительный залп, который сделали солдаты в саду общежития училища имамов-хатибов.) Все замолчали и стали ждать. Снег, падавший весь день, наконец почти прекратился. Стояла необычайно красивая, волшебная тишина. Через какое-то время кто-то сказал, что у старика (тот вовсе не был стариком) есть право выкурить последнюю сигарету. Они вставили Реджаи-бею в рот сигарету, сверкнули зажигалкой и, заскучав, пока тот курил, начали ломать дверь Телефонного управления прикладами ружей и ногами в солдатских ботинках.
– Жаль государственного имущества, – сказал Реджаи-бей, оставшийся стоять в стороне. – Развяжите меня, я открою.
Они вошли внутрь, а Ка продолжил свой путь. То и дело слышались редкие звуки выстрелов, но он обращал на них внимание не больше, чем на вой собак. Все его внимание было сосредоточено на совершенно неподвижной красоте ночи. На какое-то время он остановился перед старым пустым армянским домом. Затем с почтением поглядел немного на сосульки, свесившиеся с веток похожих на привидения деревьев в саду, и на развалины церкви. В мертвенно-тусклом свете желтых уличных фонарей все выглядело так, будто явилось из печального сна, и Ка охватило чувство вины. В то же время его сердце было полно благодарности к этому безмолвному и забытому краю, где его душа вновь наполнилась стихами.
Поодаль на тротуаре стоял юноша, решивший пойти посмотреть, что происходит; в окне появилась его рассерженная мать, она ругала его и звала домой. Ка прошел между ними. На углу проспекта Фаик-бея он увидел двух мужчин, своих ровесников, поспешно выходивших из лавки сапожника; один был довольно крупным, а второй – хрупким, как подросток. Это были двое влюбленных, которые вот уже двенадцать лет, соврав женам, что идут в чайную, тайно встречались в этой пропахшей клеем лавке; узнав из телевизора, постоянно включенного у соседа наверху, что выходить на улицы запрещено, они забеспокоились. Ка повернул на проспект Фаик-бея и, спустившись на две улицы вниз, заметил танк перед лавкой, рядом с дверью которой он утром видел рыбный прилавок. Танк, как и улица, был словно мертвый и такой неподвижный и стоял в такой волшебной тишине, что Ка сначала решил, что в нем никого нет. Но люк открылся, оттуда показалась голова и сказала ему, чтобы он немедленно возвращался домой. Ка спросил, как пройти к отелю «Кар-палас». Но солдат еще не успел ответить, как Ка заметил напротив темную типографию газеты «Серхат шехир» и понял, как вернуться.
Тепло отеля, свет в вестибюле наполнили его сердце радостью. По лицам постояльцев в пижамах, смотревших телевизор с сигаретами в руках, он понял, что произошло что-то необычное, но его разум свободно и легко скользил надо всем, подобно ребенку, который уходит от разговора, который ему не нравится. В квартиру Тургут-бея он вошел с этим чувством легкости. Все еще были за столом и смотрели телевизор. Завидев Ка, Тургут-бей встал и с упреком в голосе сказал, что они очень беспокоились из-за того, что он опоздал. Он говорил что-то еще, но Ка вдруг встретился взглядом с Ипек.
– Ты очень хорошо прочитал стихотворение, – сказала она. – Я тобой горжусь.
Ка сразу же понял, что это мгновение не сможет забыть до конца своих дней. Он был так счастлив, что из его глаз полились бы слезы, если бы не вопросы других девушек и если бы Тургут-бей не умирал от любопытства.
– Наверное, военные что-то затеяли, – сказал Тургут-бей с грустью человека, не решившего, радоваться ему, надеяться или огорчаться.
Стол был в ужасном беспорядке. Кто-то стряхнул пепел сигареты на шкурки от мандаринов – наверное, Ипек. То же самое, когда Ка был ребенком, делала молодая дальняя родственница отца, тетя Мюнире, и мать Ка очень ее презирала за это, хотя разговаривала с ней всегда в высшей степени вежливо.
– Объявили, что запрещено выходить на улицу, – сказал Тургут-бей. – Расскажите нам, что случилось в театре.
– Политика меня совершенно не интересует, – проговорил Ка.
Все, и прежде всего Ипек, поняли, что он сказал это совершенно искренне, но он все же почувствовал себя виноватым.
Сейчас ему хотелось долго сидеть здесь, ни о чем не разговаривая, и смотреть на Ипек, но ему было беспокойно из-за воцарившейся в доме атмосферы «ночи после переворота» – не из-за плохих воспоминаний о таких ночах, оставшихся с детских лет, а из-за того, что все у него о чем-то спрашивали. Ханде заснула в углу. Кадифе смотрела телевизор, который не хотел смотреть Ка, а Тургут-бей выглядел встревоженным, но довольным, потому что происходило что-то интересное.
Сев рядом с Ипек, Ка некоторое время держал ее за руку и попросил ее прийти наверх, в его комнату. Как только он почувствовал боль из-за того, что не может сблизиться с ней еще больше, он поднялся к себе. Здесь стоял знакомый запах дерева. Он аккуратно повесил пальто на крючок за дверью. Потом зажег маленькую лампу у изголовья кровати: усталость, словно гул, идущий из-под земли, охватила не только все его тело, веки, но и всю комнату, и весь отель. Поэтому, быстро записывая в свою тетрадь новое стихотворение, он чувствовал, что у этих строчек, у кровати, на краю которой он сидел, у здания отеля, у заснеженного города Карса и у всего мира есть какое-то продолжение.
Он назвал стихотворение «Ночь мятежа». Оно начиналось описанием того, как в детстве, по ночам, во время военного переворота, вся его семья, проснувшись, в пижамах слушала радио и марши, но затем они все вместе шли к праздничному столу. Именно поэтому через какое-то время он поймет, что это стихотворение родилось не под впечатлением от восстания, которое он сейчас пережил, а из воспоминаний о восстании, и, исходя из этого, он и расположит его на своей снежинке. Важным в стихотворении был вопрос: может ли поэт позволить себе не обращать внимания на происходящее, если в мире правит несчастье? Только поэт, который сумел бы это сделать, жил бы в реальности как в мечте, но это-то и было тем сложным делом, где поэту трудно добиться успеха! Закончив стихотворение, Ка закурил и выглянул из окна на улицу.
20
Да здравствует страна и нация!
Ка проспал крепким и ровным сном ровно десять часов и двадцать минут. Во сне он видел, как идет снег. За какое-то время до этого снег вновь пошел на белой улице, которая виднелась в щель приоткрытой занавески; в свете бледного фонаря, освещавшего розовую вывеску «Отель „Кар-палас“», снег выглядел необычайно мягким. Возможно, из-за того, что мягкость этого загадочного, волшебного снега поглощала звуки выстрелов, раздававшиеся на улицах Карса, Ка и смог так спокойно проспать всю ночь.
Между тем общежитие училища имамов-хатибов, к которому подъехали танк и два грузовика, было через две улицы. Столкновение произошло не у главной двери, которая все еще демонстрировала мастерство армянских железных дел мастеров, а у деревянной, которая вела в актовый зал и в спальни последнего курса. Войдя в заснеженный сад, солдаты сначала для острастки выстрелили вверх, в темноту. Самые воинственные из студентов-исламистов пошли на спектакль в Национальный театр и там были арестованы, а в общежитии остались новички или равнодушные к политике. Однако после сцен, увиденных по телевизору, они, воодушевившись, забаррикадировали дверь столами и партами и стали ждать, то и дело выкрикивая: «Аллах акбар!» Несколько сумасшедших студентов додумались кидать в солдат из окон уборной вилки и ножи, которые они стащили в столовой, и играть единственным оказавшимся у них пистолетом, и поэтому в конце этой схватки вновь раздались выстрелы, и один красивый стройный студент упал и умер, получив пулю в лоб. Когда в Управление безопасности, избивая, увозили на автобусах всех вместе: и учеников средних классов в пижамах, большинство которых плакали, и нерешительных, которые приняли участие в этом сопротивлении, лишь бы не сидеть сложа руки, и сражавшихся, у кого лица были все еще в крови, – очень мало кто в городе обратил внимание на происходящее из-за обильного снегопада.