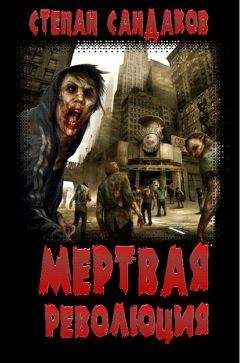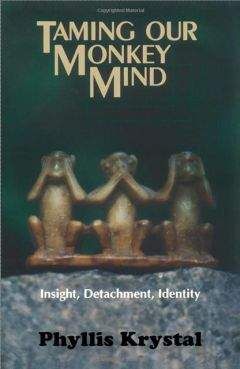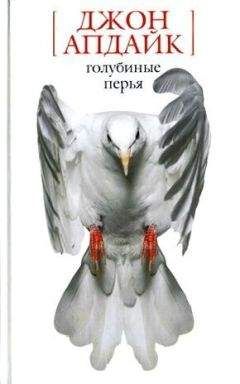Сол Беллоу - Равельштейн
Те, в ком Равельштейн по-настоящему нуждался, приходили очень часто. Флады, например, муж и жена, которых Равельштейн и Никки очень любили. Оба работали в университетской администрации. Сам Флад, в частности, занимался связями с населением: представлял университет в городском совете и заведовал системой безопасности (университетская полиция докладывалась именно ему). Еще в его задачи входило тушение скандалов. Флад был тонким, чувствующим, серьезным и добросердечным человеком. Одному богу известно, сколько неприятных каш он расхлебал, занимаясь университетскими делами. Да и не только университетскими. Флад ходил в один греческий ресторанчик. У хозяина этого заведения внезапно заболела раком дочка – так Флад в последний момент устроил ее в хорошую больницу, где ей сделали операцию и спасли жизнь. Весь город знал, что этот человек «никогда не откажет». Нам с Равельштейном он тоже не раз оказывал добрые услуги. Двери дома Фладов всегда были открыты, как и равельштейновы. Люди приходили и уходили, когда им вздумается. Гильда Флад и ее муж любили друг друга – просто любили, и все. Умение любить, эту наивную (но непреложную) человеческую особенность Равельштейн ценил как ничто другое.
Впрочем, достаточно; я лишь хотел рассказать, какие разные люди сходились к постели умирающего Равельштейна. Поднимая голову с подушек, он видел рядом тех, кто был ему знаком и близок – чем не семья?
Ближе к концу Равельштейн часто на меня раздражался. От профессора Даварра он узнал, что современные люди – а я в некоторых смыслах был современным человеком – порой чересчур упрощают себе жизнь. И им не повредит, если кто-нибудь со стороны привлечет их к ответственности – обрежет чрезмерно разросшиеся заросли бредовых идей. Так что Равельштейн мог говорить со мной откровенно, не боясь обидеть.
Часто умирающие становятся крайне суровы и строги к окружающим. Мы остаемся жить, а они уходят – не каждый способен такое простить. Допустим, я не заслуживал удара линейкой по пальцам за мнение X, но уж погрозить мне пальцем за Y было вполне можно – и нужно. Чем старше ты становишься, тем более неприятные открытия делаешь о собственной персоне. Равельштейн надеялся, что благодаря его советам я лучше распоряжусь отведенным мне временем. Признать голые факты – самое малое, на что способен человек. Он считал, будто я чересчур легкомысленно отношусь к греху самоубийства – потому что я сказал ему, что он дал Бэттлам очень еврейский ответ. Правда, потом он смягчился и добавил: «По крайней мере, на моем счету теперь две спасенные жизни».
И все же я – с помощью Розамунды – выполнил обещание, данное Равельштейну. Он умер шесть лет назад, в самом начале еврейского Нового года. Произнося кадиш по своим родителям, я не забывал и о нем. А во время поминальной службы – изкора – я начал подумывать об обещанных мемуарах. И стал гадать, с какого бока мне к ним подступиться: как обойтись со всеми его пунктиками, странностями, каламбурами, манерой есть, пить, бриться и игриво расправляться со студентами. Но это все больше относится к естествознанию. Окружающие считали его эксцентричным чудаком и извращенцем – ухмыляющимся, вечно дымящим сигаретой, читающим лекции и нотации, властным, заносчивым, нетерпеливым… Я считал его умнейшим, обаятельнейшим человеком. Человеком, который поставил себе опасную цель: подточить основы общественных наук и прочих университетских дисциплин. Из-за своих сексуальных предпочтений он был обречен на преждевременную смерть. Об этом он всегда был предельно откровенен со мной и со всеми близкими друзьями. Он был – если использовать слово из далекого прошлого – содомит. Но не «гей». Он презирал вульгарных и претенциозных гомосексуалистов, ни во что не ставил гей-парады и движение в защиту секс-меньшинств в целом. Порой, в чем-то признаваясь, он повергал меня в полную растерянность. Однако он выбрал меня своим портретистом и, беседуя со мной, понимал, что говорит под запись. Только аристотелевский человек великой души способен так откровенничать. Полагаю, даже в наш век люди еще понимают выражение «человек великой души», хотя теперь это и не считается достижением. Равельштейн доверился мне. Он решил, что мне под силу составить его портрет. «Тебе это ничего не стоит», – говорил он. Я соглашался – более или менее.
Есть один закон, относящийся к мертвым: их надо забыть. После похорон всегда начинается постепенный процесс, ведущий к забвению. Но с Равельштейном это случилось не в полной мере. Слишком заметное место он занимал в моей жизни и жизни Розамунды. Еще со школы она запомнила одну цитату: «Общайтесь с благороднейшими людьми; читайте только лучшие книги; живите с сильными, но умейте быть счастливыми в одиночку».
Равельштейн сказал бы, что это морализаторский бред для школьников.
Он, несомненно, был из числа этих самых «благороднейших людей». Однако непростая задача нарисовать его портрет постепенно превратилась для меня в тяжкое бремя. Розамунда, впрочем, считала, что я как нельзя лучше подхожу для этой работы. К тому же я очень скоро прошел через репетицию собственной смерти. Но в ту пору Равельштейн был еще жив, и мы лишь начинали задумываться о том, что скоро его не станет.
– Брось, главное – начать, – однажды сказала Розамунда. – Как он сам говорил, ce n’est que le premier pas qui coûte [20].
– Ага, это была его фирменная фразочка, гарантия качества: вроде товарного знака или акцизной марки.
– Вот он, вот – шуточный тон, который ему так нравился. О его идеях пусть пишут другие.
– За них я и не думал браться. Всю заумь лучше оставлю экспертам.
– Тебе нужно только устроиться поудобней.
Однако шли месяцы, годы, а я все не мог – хоть режьте – найти стартовую точку.
– Все должно получиться само собой, легко и просто. «Легко – или никак, – говорил как бишь его, – если строка не льется соловьиной трелью, лучше и вовсе не браться».
Иногда Розамунда в ответ на это говорила:
– По-моему, Равельштейн и соловьи – понятия несовместимые.
В такого рода беседах проходили годы, и нам обоим стало ясно, что я не в силах начать, что передо мной стоит чудовищное препятствие. Розамунда перестала меня подбадривать. И молодец, очень мудрое решение с ее стороны – оставить меня в покое.
Однако мы почти каждый день разговаривали о Равельштейне. Я вспоминал его баскетбольные вечеринки, ужины со студентами в Гриктауне, шопинг-туры, его энергичные и яркие, но всегда серьезные, полновесные семинары. Другая женщина на месте Розамунды могла бы и не успокоиться, давила бы на меня. «Он ведь был твоим близким другом, ты ему обещал» или: «На том свете он наверняка в тебе разочаровался». Однако Розамунда прекрасно понимала, что я и сам себе все это говорю – даже слишком часто. Иногда я представлял, как он лежит в саване рядом с ненавистным отцом. Равельштейн говорил про него: «Этот истерик часто бил меня ремнем по голому заду и орал какую-то бессвязицу, а потом, каких бы успехов я ни добивался, так и не простил мне, что я не попал в “Фи Бета Каппу”. “Ладно, ты написал книгу, и ее хорошо приняли критики, но как же “Фи Бета Каппа”?»
Розамунда только иногда говорила:
– Если ты напишешь хотя бы про эту историю с «Фи Бета Каппой», Равельштейн на том свете уже порадуется.
На что я отвечал:
– Равельштейн не верил в тот свет. А если он сейчас где-то и жив, какое удовольствие ему может доставить описание его тупоумного отца или, если уж на то пошло, любого события так называемой бренной жизни? Это я вечно представляю, как после смерти встречу своих покойных родителей… а заодно братьев, друзей, дядюшек и тетушек…
Розамунда кивала. Она имела такую же склонность. Иногда она добавляла:
– Я часто спрашиваю себя, чем они занимаются на том свете.
– Если провести опрос на эту тему, выяснится, что большинство из нас после смерти надеются на встречу с близкими и любимыми – теми самыми людьми, которым лгали, изменяли, которых презирали и ненавидели. Не ты, Розамунда, ты исключительно честна. Но даже Равельштейн, никогда не питавший подобных иллюзий, говорил… Однажды он выдал себя, когда сказал, что из всех его близких я, вероятно, отправлюсь за ним первым. Отправлюсь куда? То есть мы где-то встретимся?
– Ну, ты уж слишком придираешься к словам.
– Мне кажется, что источником этих иллюзий можно назвать детскую любовь. Наверное, так я признаюсь себе, что спустя полвека чувствую, что не успел толком попрощаться с матерью. Фрейд бы обозвал мои чувства сентиментальными и бессмысленными. Но Фрейд был врачом, а врачи XIX века вообще не любили сантиментов. Они считали, что человек – это химические компоненты общей стоимостью около шестидесяти двух центов… Суровые были ребята.
– Равельштейна не назовешь простофилей.
– Конечно не назовешь! Однако давай копнем поглубже… Сейчас поделюсь с тобой одним странным соображением. Я тут подумал… если бы я все-таки написал мемуары о Равельштейне, то между мной и смертью больше не осталось бы преград.