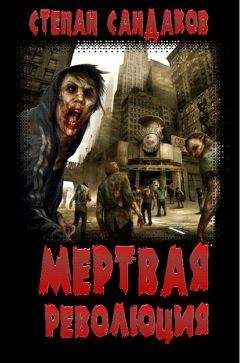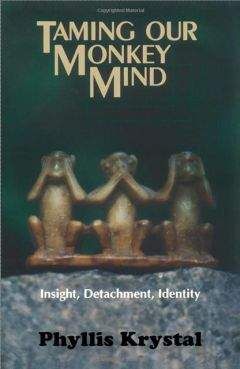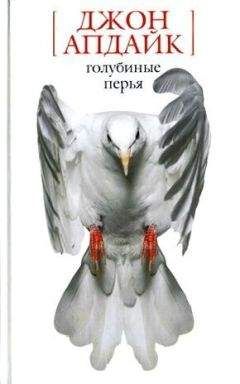Сол Беллоу - Равельштейн
Я спросил его, что это значит.
Моррис прочно сидел на стуле, сложив руки на коленях, спокойный и рассудительный, белокудрый и снова румяный – эндокардит ему больше не грозил. Он признался мне, что в данный момент чувствует себя Санта-Клаусом из универмага. Потому что в центре его «телесной фабрики» (как он сам выразился) теперь царит чужое сердце, вместе с которым он обрел и новый темперамент – мальчишеский, пылкий, готовый с радостью пойти на риск. «Я чувствую себя как тот трюкач Ивел Книвел, который на своем байке одним махом перелетал через шестнадцать пивных бочек».
Как ни странно, я его понимал, поскольку в ту пору как раз проходил лечение у физиотерапевта. Она говорила, что основные наши внутренние органы окружены заряженной энергией и что она, терапевт, в данный момент вышла на связь с моим желчным пузырем. Я сказал: «У меня нет желчного пузыря, его удалили!» На что она невозмутимо ответила: «Безусловно, но энергия-то никуда не делась – и не денется, покуда вы живы».
Я пишу об этом – с долей агностицизма, – поскольку мне предлагалось поверить, что в груди Хербста теперь живет не просто чужое молодое сердце. Органы – это вместилища теней и мощных импульсов, тревожных или радостных; все они поселились в теле Хербста вместе с новым сердцем и теперь обживались в новой обстановке.
Будь это почка или поджелудочная железа, дело обстояло бы иначе. Однако сердце имеет массу коннотаций; здесь обретаются чувства и переживания человека – его духовная жизнь.
Тем не менее этот юноша из Миссури спас Морриса, немецкого еврея, от верной смерти. И я с трудом удержался от расспросов о том, как это сердце – сердце христианина или атеиста, с его собственной энергией и ритмами – адаптируется к иудейским нуждам и особенностям, страданиям и идеям? С Равельштейном я поговорить об этом тоже не мог – не в том он сейчас был состоянии.
Я осмелился лишь как можно тактичней поинтересоваться у Морриса о трансплантате. Он сказал, что в любом штате, когда ты получаешь водительские права, тебя спрашивают, согласен ли ты в случае смерти стать донором органов.
– Этот юнец, не задумываясь, нарисовал галочку в анкете – а, какая разница, почему бы и нет? И вот его сердце уже доставляют самолетом на восток, и хирурги многопрофильной больницы Массачусетса запихивают его в чужое тело.
– Так ты ничего не узнал про парня?
– Почти ничего. Отправил благодарственное письмо родителям.
– Что ты им написал, если не секрет?
– Да правду: что я очень признателен и пусть они не волнуются: сердце их мальчика отдали настоящему американцу, а не какому-нибудь иностранному гаду…
– Наверное, когда на трассе тебя окружает банда байкеров в шарфах, шлемах и очках, тебя одолевают странные чувства и мысли.
– Морально я к этому готов.
– Родители ответили?
– Даже открытки не прислали. Но, думаю, они рады, что сердце их сына все еще бьется. – Моррис скромно опустил голову и подпер ее руками, словно пытался разглядеть ответы в узорах равельштейновского персидского ковра – или выискивал там некое откровение о том, за что ему достался такой щедрый подарок судьбы. Я больших надежд на ковер не питал. Прибегну к языку столичной политики: странные вырисовывались перспективы. Но жизнь – то есть то, что постоянно проходит перед глазами человека, образы и картинки, продуцируемые жизнью, – продолжалась. В связи с этим вспомнился один наш разговор с Равельштейном.
Как-то раз он спросил меня, что я думаю о смерти, как себе ее представляю. Я ответил: «Картинки перестанут показывать». Очевидно, под картинками я подразумевал то, что американцы называют Опытом. В тот момент я думал вовсе не о тех картинках, которые мы можем лицезреть благодаря научно-техническому прогрессу, – изображениях собственного кишечного тракта или сердца. В конце концов, сердце – это всего лишь группа мышц. Но как же они живучи и упрямы – сокращаться начинают еще в утробе матери и без устали работают целый век. Правда, сердце Хербста сдало спустя пятьдесят с лишним лет, зато с трансплантатом он смог бы прожить и до восьмидесяти, если не больше. Каждый год ему приходилось ложиться в больницу на обследование, однако в целом его жизнь практически не изменилась. Он производил впечатление доброго, терпимого, незашоренного человека. Его благостное, обрамленное белыми кудрями лицо – словно циферблат остановившихся часов – казалось спокойным и здоровым. Женщин он разглядывал очень внимательно, подолгу останавливался на фигуре, груди, ногах, прическах. Он был из тех мужчин, что знают цену женским достоинствам. Его пытливый взгляд никогда и никому не причинял неудобства. Он рассматривал женщин со спокойным, равнодушным удовольствием. Но вел он себя тихо, скромно, и потому его интерес мало кого раздражал.
Когда Моррис приехал, я решил не мельтешить у них перед глазами. Они с Равельштейном дружили полвека, и им наверняка было что обсудить. Не вставая, Равельштейн крикнул: «Ведите его сюда!» Постельное белье «Пратези» сбилось в ком посреди кровати, а мягкое норковое покрывало отменной выделки лежало на полу. Картины на стенах почему-то никогда не висели ровно. Вся великолепная антикварная мебель была завалена одеждой, бумагами и письмами. Эти письма невольно наталкивали на мысль о конфликтах и распрях, в которые он ввязался, о могущественных врагах Равельштейна в академической среде. Ему было на них плевать.
Хербст остановился возле кровати и обнял друга.
– Чик, принеси Моррису стул, пожалуйста.
Я выудил из угла итальянский стул с круглой спинкой. Глядя на румяного Хербста, сложно было не забыть, что он живет лишь благодаря трансплантату и многого не может делать сам. На секунду мне даже подумалось, что Равельштейну приятней было бы увидеть своего старейшего и ближайшего друга немощным стариком, инвалидом. Впрочем, неприятная мысль быстро меня покинула. Равельштейн думал вовсе не о том: он, конечно, умирал, но зацикливаться на этом не собирался. Ему хотелось поговорить.
Я вышел, оставив друзей наедине в комнате, которую Равельштейн обставил согласно своему вкусу и положению в обществе. Практически сразу из спальни донесся громкий хохот: они рассказывали друг другу свежие (непременно скабрезные) анекдоты. Атмосфера в духе «последних дней Сократа» Равельштейну не подходила. Не то время, чтобы строить из себя кого-то другого – даже Сократа. В последние дни человеку больше всего хочется быть самим собой. Равельштейн не мог тратить драгоценные часы на глупый театр.
Когда они успокоились и завели личную беседу, я отправился домой и подробно рассказал Розамунде о том, как прошел день. Она разговаривала по телефону с женщиной, которая набирала ее диссертацию. Через несколько недель Розамунде предстояло защищать докторскую. Она пять лет проучилась у Равельштейна, и если бы мне вдруг понадобилось узнать, чем Макиавелли был обязан Ливию, я мог просто спросить эту стройную красивую женщину с большими голубыми глазами. Впрочем, долги Макиавелли в ту пору меня не интересовали. Зато мне приносило огромную радость и утешение то, что я могу поговорить с этой чудесной женщиной о чем угодно – она с лету понимала любые мои слова.
– Хербст приехал? Наверное, им есть о чем поговорить.
– Не сомневаюсь, но сперва они рассказали друг другу пару неприличных анекдотов. Удивительная встреча, с какой стороны ни глянь. Хербст, в груди которого бьется чужое сердце, и умирающий Равельштейн. В каком-то смысле анекдоты тут даже уместнее, чем беседы о душе и бессмертии. Если хочешь узнать, что с тобой будет после смерти, надо купить билет.
– Умереть?
– А есть другой способ получить нужные сведения?
– Никки тебе сказал, что доктор Шлей снова кладет Равельштейна в больницу?
– Надо же, – удивился я. – Он только-только заново научился ходить. Я думал, уж годик он точно протянет.
– Правда?
– Конечно. Зато в больнице он лучше защищен от друзей и доброжелателей.
– В отличие от тебя он человек компанейский.
Дело было не только в компанейскости. Люди приходили к нему со своими проблемами и несчастьями, словно ожидали получить от умирающего мудреца некое божественное откровение.
Дверь в спальню Равельштейна была открыта, и я увидел Бэттла, его давнего приятеля. Посетитель стоял спиной к двери: длинная черная грива покоилась на могучих плечах, на ногах были модные ботинки по щиколотку. Лица я не видел, но его жена, судя по всему, плакала. Она согнулась в три погибели – что еще делать в такой позе, если не плакать? Я искренне уважал миссис Бэттл и очень любил ее мужа.
Бэттлы были поклонниками Равельштейна. Они никогда не ходили на его лекции и вряд ли прочли хоть одну книгу, но все его суждения принимали за истину в последней инстанции. Несколько лет назад Бэттл вышел на пенсию, и они с женой уехали жить за город, в висконсинские леса, где вели очень простой образ жизни – а-ля Торо. В городе они бывали наездами, и тогда Равельштейн ходил с ними ужинать в наш сербо-французский клуб.